Во введении обоснована актуальность выбранной темы, отражено состояние проблемы, обозначено общее направление работы, определены объект и предмет, сформулированы цель, задачи, гипотезы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическое и прикладное значение работы, определена теоретическая и методологическая основа исследования и методические средства, приведены сведения о достоверности результатов и апробации работы, представлены положения, выносимые на защиту.
Первая глава «История и современное состояние проблемы отношения личности к себе – самоотношения – в психологической науке» посвящена рассмотрению различных аспектов изучаемой проблемы в теоретических и эмпирических исследованиях и состоит из трех параграфов.
В первом параграфе представлен обзор исследований отечественных и зарубежных авторов по проблеме самоотношения личности. С точки зрения психоанализа и гуманистической психологии «самоотношение» близко по своему смыслу понятию «самосознание». Как эмоциональный компонент самосознания, как одно из проявлений Я-концепции самоотношение исследуется в работах зарубежных авторов Э.Берна, Р.Бернса, У.Джеймса, К.Роджерса, З.Фрейда, Э.Эриксона и др. Наиболее детально и дифференцированно данный феномен стал изучаться отечественными психологами, в частности Б.Г.Ананьевым, Л.И.Божович, Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым, С.Л.Рубинштейном, В.В.Столиным и др., у которых понятие «самоотношение» выступает как один из основных компонентов самосознания и анализируется в контексте более общей проблемы – проблемы развития личности.
А.Г.Спиркин, И.И.Чеснокова и др. наряду с самоотношением выделяют и другие аспекты самосознания: самопознание, самоконтроль. Кроме того, самоотношение рассматривается в качестве одного из видов отношений наряду с субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями (В.А.Петровский, В.Н.Мясищев А.Ф.Лазурский, С.Р.Пантилеев, Н.И.Сарджвеладзе, В.В.Столин и др.).
Эмоционально-ценностный характер самоотношения подчеркивают И.И.Чеснокова, В.В.Столин, Т.В.Архиреева. Показано, что природа самоотношения не замыкается внутренним пространством личности и ее самосознания, а через мотивы связывается с реальной жизнедеятельностью субъекта, выполняя одну из своих основных функций – интеграцию отдельных эмоциональных оценок личности и их выражение в виде общего смысла «Я».
Второй параграф посвящен выделению и сопоставлению различных точек зрения на структуру самоотношения личности. Анализ работ позволяет обозначить следующие компоненты самоотношения, образующие структуру: самопринятие, самоуважение, интерес к себе, самолюбие, самоудовлетворенность, самоутверждение, которые обсуждаются в работах К.А.Абульхановой-Славской, Д.А.Леонтьева, В.Ф.Сафина, В.В.Столина, И.И.Чесноковой, Е.П.Никитина, Н.Е.Харламенковой и др.
Важное значение в формировании отношения к себе придается позитивному самоотношению, которое интегрирует в себе самопринятие, самоценность, отраженное самоотношение, интерес, самоуверенность и др. (К.А.Абульханова-Славская, Ю.А.Алешина, Л.Я.Гозман, И.С.Кон, С.Р.Пантилеев, Э.Фромм). В системе позитивного самоотношения выделяется две подсистемы: система самооценок, основанная на сравнении себя с другими (самоуважение) и система эмоционально-ценностного отношения к себе, основанная на сравнении себя с самим собой (аутосимпатия). При неблагоприятном стечении обстоятельств возможно развитие противоположных характеристик – неприятия себя, неуважения, отсутствия интереса к себе, нарастания внутренних конфликтов и чувства вины, которые в целом интегрируются в негативное самоотношение (С.Р.Пантилеев, В.В.Столин).
На основе изучения литературы по исследуемой проблеме, было сформулировано следующее определение самоотношения: отношение к себе – самоотношение – это эмоциональный компонент самосознания, в котором выражается общий интегрированный смысл «Я» субъекта. Оно рассматривается как многомерное динамическое образование, в структуру которого входят такие компоненты как «позитивное отношение к себе» (самоуважение и аутосимпатия) и «негативное отношение к себе» (самоуничижение).
В третьем параграфе проводится анализ литературы по проблеме генезиса самоотношения в поздней юности. Динамике самоотношения в детстве, подростковом возрасте и юности посвящены работы Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, Л.С.Выготского, М.И.Лисиной, В.С.Мухиной, Д.Б.Эльконина, Э.Эриксона и других авторов. В период перехода от подросткового к раннему юношескому возрасту в рамках становления нового уровня самосознания наблюдается упрочение отдельных проявлений отношения к себе, их интеграция и оформление в виде устойчивой структуры самоотношения.
О важности изучения этой области внутреннего мира молодых людей убедительно свидетельствуют исследования, проведенные в общей и возрастной психологии (В.А. Алексеев, И.С. Кон, М. Лифшиц и др.). Показано, что сложная структура отношения к себе организуется вокруг таких ее составляющих как самопринятие, открытость и самоуважение, и во многом зависит от отношения родителей и ближайшего окружения.
Вторая глава «Проблема детско-родительских отношений в отечественной и зарубежной психологии» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе анализируется категория «отношение» как одно из центральных понятий психологии личности и социальной психологии (В.В.Абраменкова, А.Ф.Лазурский, Д.А.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, В.А.Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.), показывается неоднозначность, сложность и многогранность этого понятия в науке. Данная категория как основа всех характеристик личности рассматривается и как связь, зависимость, взаимоотношение, общение, т.е. отношение с кем-то или чем-то, и как предпочтения и установки по поводу явлений, событий, ценностей мира. Огромное значение придается различным видам отношений в становлении личности.
Во втором параграфе обсуждается специфика детско-родительских отношений в поздней юности. Указывается, что актуальность данной проблемы сохраняется на протяжении всего развития психологии как науки. Детско-родительские отношения, как многообразие взаимодействий родителей и детей, анализируются в работах современных отечественных психологов: В.В.Абраменковой, Г.С.Абрамовой, В.М.Даринской, В.Н.Дружинина, А.И.Захарова, С.В.Ковалева, Е.А. Сергиенко, А.С.Спиваковской, А.В.Суворова, Д.И. Фельдштейна и многих других. В ходе теоретического анализа проблемы был сделан вывод о том, что реальные отношения родителей и детей, их эмоциональная связь являются одним из существенных базовых условий формирования полноценной личности.
Основным механизмом формирования представлений об окружающей действительности, о самих себе у юношей и девушек, является процесс идентификации с другими, в том числе и с родителями (А.Бандура, И.С.Кон, О.О.Савина, З. Фрейд и др.). Важнейшим условием правильного протекания этого процесса считается наличие и фактически и психологически полной семьи с адекватным исполнением родителями традиционных половых ролей.
В третьем параграфе анализируются близкие по смыслу, но не тождественные друг другу, понятия: депривация, сепарация, разлука. Дается определение семейной депривации. В зависимости от субъекта, создающего психотравматическую (депривационную) ситуацию для ребенка, выделяются виды депривации: отцовская, материнская, родительская, детская (субъектами выступают братья и сестры) и внутренняя (игнорирование своих чувств и эмоций для сохранения своей собственной позитивной оценки «Я»). Проводится обзор психологической литературы (Д.Боулби, М.В.Покатаева, О.Н.Павлова, В.Сатир, А.Фрейд, М.Эйнсворт, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис, и др.), позволяющий сделать вывод о том, что безразличие родителей, которые по разным причинам не удовлетворяют потребность ребенка в общении, негативно отражается на психическом развитии личности, на формировании ее самоотношения. Указывается, что недостаточно изученными остаются отсроченные последствия семейной депривации, их влияние на детско-родительские отношения и на формирование самоотношения личности в поздней юности.
В третьей главе «Эмпирическое исследование самоотношения и отношения юношей и девушек к родителям при семейной депривации» описываются методы, планирование и организация эмпирического исследования, излагаются и обсуждаются его результаты.
В первом параграфе «Постановка проблемы и обоснование выбора методик эмпирического исследования» дается обоснование использованных методических приемов и процедур, представлена программа исследования.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Методика исследования самоотношения (МИС) (Пантилеев, 1993) применялась для определения структуры самоотношения и аффективно нагруженных образов отца и матери юношей и девушек, которые отвечали на опросник за себя и вместо отца и матери так, как на эти утверждения ответили бы их родители. Для обеспечения внутренней валидности эмпирического исследования, методика исследования самоотношения была дополнена проективной методикой «Кодирование» (Герасимов, Дворянчиков, 1996), а также методикой «Незаконченные предложения» Дж. Сакса и С.Леви.
2. Проективная методика «Кодирование» (Герасимов, Дворянчиков, 1996) позволяет изучить динамику самоотношения. Основными стимулами являются понятия: «мужчина», «женщина», «ребенок», «я».
В исследовании методика «Кодирование» была модифицирована, для того чтобы использовать ее как направленный ассоциативный тест с целью изучения особенностей детско-родительских отношений. Стимулы «мужчина» и «женщина» были заменены стимулами «отец» и «мать», а стимул «ребенок» определен как «Я» в детстве. Ассоциации на стимулы ограничивались рамками определенных классов – неодушевленный предмет, травянистое растение, дерево, животное, геометрическая фигура, музыкальный инструмент, сказочный персонаж, амплуа артиста цирка. Кроме этого, процедура включала в себя раскрытие содержательного, смыслового компонента каждого ассоциативного образа. Испытуемым предлагалось подобрать ассоциацию на ключевые слова в рамках заданных предметных классов, а затем – один или более признаков сходства стимула и ассоциации.
3. Методика «Незаконченные предложения» (Дж.М.Сакс, С.Леви) была использована для изучения отношения к себе, отношения к родителям и отношения к окружающим. Анализировались утверждения, в которых раскрывается отношение к себе, к родителям, к представителям противоположного пола, к цели, к друзьям.
4. Анкета применялась для получения сведений об испытуемых и их семье, о степени депривированности респондентов, порядке их рождения, а также о видах депривации (материнской, отцовской, родительской) и факторах, влияющих на самоотношение и отношение к родителям испытуемых, которыми являются возраст начала разлуки, срок разлуки, попечение ребенка.
Второй параграф «Описание выборки испытуемых и процедуры проведения исследования» включает общую характеристику выборки, описание этапов исследования и процедуры обработки данных.
В данном исследовании приняли участие 411 человек (девушки – 213 человек (52%), юноши – 198 человек (48%)). Средний возраст испытуемых 20,5 лет. Возрастной диапазон испытуемых от 19 до 22 лет, все они являлись студентами третьего и четвертого курсов дневных отделений ОГТУ АЭ (г. Обнинск) и филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова (г. Балабаново), не состояли в браке и не имели детей. Испытуемые продолжали жить в родительской семье или в общежитии, навещая родителей на каникулах.
В экспериментальную группу (депривированные) вошли респонденты, в памяти которых длительная разлука с родителями оставила аффективный след, что подтверждается данными, полученными с помощью 10-балльной шкалы анкеты, используемой для оценки депривационного опыта. Контрольная группа (недепривированные) включала испытуемых из полных семей, которые не расставались в детстве с родителями или разлука с которыми не оставила в памяти юношей/девушек аффективного следа.
Третий и четвертый параграфы содержат описание результатов эмпирического исследования и их обсуждение.
Семейная депривация, как условно независимая переменная включила в себя факторы (возраст начала разлуки, срок разлуки, попечение ребенка) и виды (материнская, отцовская и родительская) депривации, которые по предположению влияют на отношение юношей и девушек к себе. При этом, на основании литературных данных, контролировались такие побочные переменные как порядок рождения и стили воспитания отца и матери. Самоотношение рассматривалось как дифференцированная структура, которая состоит из модальностей (самоуважение, аутосимпатия и самоуничижение), а они в свою очередь включают в себя отдельные компоненты самоотношения (открытость/закрытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутреннюю конфликтность и самообвинение). Данные юношей и девушек рассматривались раздельно, т.к. исходный общий анализ результатов показал довольно размытую картину с явным влиянием переменной «пол» на отношение юношей и девушек к себе.
Для определения связи факторов семейной депривации в детстве (возраста, начала разлуки, срока разлуки и попечения ребенка) с компонентами и модальностями самоотношения юношей и девушек (гипотеза 1), оцененными с помощью МИС (С.Р.Пантилеев, 1993), был использован коэффициент ранговой корреляции r s-Спирмена (§ 3.3.1 диссертации).
Результаты эмпирического исследования подтвердили предположение о том, что самоотношение эпизодически и хронически депривированных юношей и девушек связано с факторами семейной депривации и не зависит от порядка рождения. При эпизодической семейной депривации снижается самопринятие, саморуководство, аутосимпатия и повышается самопривязанность, самообвинение и самоуничижение юношей и девушек (все связи на уровне р≤0,05). Кроме этого только у юношей снижается уверенность в себе и самоуважение, повышается внутренняя конфликтность и стремление к самокритике. Факторы семейной депривации и порядок рождения не затрагивают такие компоненты самоотношения как отраженное самоотношение и самоценность у юношей и открытость, самоуверенность, самоценность, внутреннюю конфликтность у девушек.
Хроническая семейная депривация у юношей снижает отраженное самоотношение (р=0,045) или доверие к другим людям и самим себе, а у девушек – уверенность в себе (р=0,02), самоуважение (р=0,04) и повышает внутреннюю конфликтность (р=0,01), самообвинение (р≥0,0001) и в целом самоуничижение (р≥0,0001). Особенно значимым для депривированных юношей и девушек оказался фактор «попечение ребенка», что говорит о важности в формировании позитивного самоотношения роли самых близких родственников – отца и матери.
Таким образом, семейная депривация более негативно влияет на самоотношение юношей, а у девушек успешнее срабатывают механизмы психологической защиты, которые позволяют сохранить позитивное отношение к себе, что было подтверждено наличием у них более низких показателей по шкале «отраженное самоотношение» по сравнению с недепривированными, т.е. наличием явного рассогласования между позитивной оценкой себя и, по мнению девушек, невысокой оценкой собственного «Я» другими людьми. Следовательно, разный депривационный опыт и его длительность снижают показатели отношения к себе, причем, чем дальше степень родства человека, опекающего ребенка в период отсутствия родителей, тем ниже самоуважение и аутосимпатия и выше самоуничижение.
При проверке следующего предположения о снижении показателей позитивного отношения к себе и большей выраженности показателей негативного отношения к себе при депривации (гипотеза 2), с помощью t-критерия Стьюдента сравнивались особенности самоотношения эпизодически депривированных и недепривированных юношей/девушек, а также эпизодически и хронически депривированных юношей/девушек (§ 3.3.2) (см. табл.1).
Таблица 1
Средние значения показателей самоотношения юношей и девушек по МИС
| Шкалы и факторы второго порядка МИС | Юноши | Девушки | ||||||||||
| Эд | Нд | t | Эд | Хд | t | Эд | Нд | t | Эд | Хд | t | |
| Открытость | 5,9 | 5,8 | 0,4 | 5,9 | 5,4 | 2,3* | 5,8 | 5,9 | 0,5 | 5,8 | 5,9 | 0, 4 |
| Самоуверенность | 6,3 | 7,1 | -2,7* | 6,3 | 6,9 | -2,2* | 7,1 | 7,2 | 0,2 | 7,1 | 6,9 | -0,6 |
| Саморуководство | 6,5 | 6,9 | -2,1* | 6,5 | 6,5 | 0,02 | 6,2 | 6,3 | -0,1 | 6,2 | 6,6 | -1,9* |
| Отраженное самоотношение | 6,7 | 6,8 | -0,5 | 6,7 | 6,2 | 2,1* | 6,6 | 7,1 | -2,5* | 6,6 | 6,6 | -0,2 |
| Самоценность | 6,9 | -0,2 | 6,9 | 7,2 | -1,7 | 7,3 | 7,4 | 0,1 | 7,3 | 7,4 | 0,1 | |
| Самопринятие | 5,4 | 6,9 | -4,9*** | 5,4 | 6,2 | -3,5*** | 6,3 | 6,6 | -2,6* | 6,3 | 6,6 | 1,8 |
| Самопривязанность | 5,5 | 6,5 | -3,7*** | 5,5 | 5,9 | 1,8 | 5,1 | 5,6 | 1,6 | 5,1 | 5,6 | 1,32 |
| Внутренняя конфликтность | 5,1 | 4,5 | 2,7* | 5,1 | 5,2 | 0,2 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | 4,8 | 4,7 | -0,3 |
| Самообвинение | 5,1 | 4,1 | 3,2** | 5,1 | 4,6 | 1,6 | 4,2 | 2,4* | 4,4 | 2,1* | ||
| Ι.Самоуважение | 6,4 | 6,7 | -1,7 | 6,4 | 6,3 | -0,7 | 6,5 | 6,6 | 0, 8 | 6,5 | 6,5 | 0,2 |
| ΙΙ.Аутосимпатия | 5,5 | 6,5 | -4,0*** | 5,5 | 6,5 | -3,3** | 6,2 | 6,5 | -1,5 | 6,2 | 6,5 | 1,5 |
| ΙΙΙ.Самоуничижение | 5,1 | 4,3 | 3,4*** | 5,1 | 4,9 | -0,9 | 4,9 | 4,3 | 1,9* | 4,9 | 4,5 | 1,9* |
Примечание: Эд - эпизодически депривированные, Хд – хронически депривированные, Нд - недепривированные; * - р≤0,05, ** - р ≤0,01, *** - р≤0,001
Результаты показали, что хроническая и эпизодическая депривация приводят к снижению саморуководства, самопринятия и самопривязанности, а также к повышению внутренней конфликтности и самообвинения (все различия на уровне р≤0,05) испытуемых мужского пола. В отличие от эпизодически депривированных, хронически депривированные юноши более закрыты (р=0,02), уверены в себе (р=0,03) и больше принимают себя (р≥0,0001), но их отраженное самоотношение ниже (р=0,04).
Структура самоотношения эпизодически депривированных девушек отличается более низкими показателями по таким компонентам самоотношения, как: отраженное самоотношение (р=0,02), самопринятие (р=0,01), и напротив, более высокими показателями по самообвинению (р=0,02). Но в отличие от юношей, эпизодически депривированные девушки имеют более низкие показатели по отраженному самоотношению и внутренней конфликтности.
Хронически депривированные девушки имеют более высокие показатели по саморуководству (р=0,049), низкие показатели по самообвинению (р=0,034), а по остальным компонентам самоотношения не отличаются от эпизодически депривированных девушек.
При обобщении результатов учитывались показатели модальностей самоотношения, а именно соотношение их уровней: высокий уровень самоуважения и аутосимпатии, т.е. позитивное самоотношение, и низкий уровень самоуничижения, т.е. негативное самоотношение, соответствуют позитивному смыслу «Я», высокие показатели как по позитивному, так и по негативному самоотношению – конфликтному смыслу «Я», низкие показатели по позитивному и высокие показатели по негативному самоотношению – негативному смыслу «Я». В связи с этим у недепривированных юношей/девушек, а также у хронически депривированных девушек был выявлен позитивный смысл «Я», у эпизодически депривированных девушек и хронически депривированных юношей – конфликтный смысл «Я», у эпизодически депривированных юношей – негативный смысл «Я».
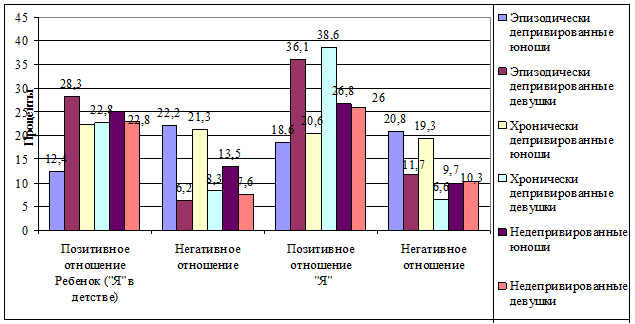 Рис. 1. Показатели отношения юношей и девушек к ребенку («Я» в детстве) и к себе по методике «Кодирование» (в процентах)
Рис. 1. Показатели отношения юношей и девушек к ребенку («Я» в детстве) и к себе по методике «Кодирование» (в процентах)
Для контроля внутренней валидности исследования были проанализированы ассоциации на слова «Ребенок» («Я» в детстве)» и «Я» по методике «Кодирование» (см. рис.1). При этом для выявления достоверности временного сдвига в двух зависимых выборках использовался Т-критерий Вилкоксона, для определения различий между депривированными и недепривированными юношами и девушками − критерий φ* (угловое преобразование Фишера).
Результаты показали, что преобладающее негативное отношение к себе в детстве у эпизодически депривированных юношей сохраняется к поздней юности (р=0,037). В юности хронически депривированные юноши относятся к себе также амбивалентно как в детстве (р=0,047). У всех девушек с детства позитивное отношение к себе преобладает над негативным, а у депривированных девушек оно увеличивается к поздней юности (р=0,006). Усиление позитивного отношения к себе у депривированных девушек объясняется работой защитных компенсаторных механизмов. Следовательно, травма разлуки с родителями в детстве продолжает оказывать негативное влияние на самоотношение в юности.
Предположение о том, что в зависимости от видов семейной депривации (материнской, отцовской, родительской) у эпизодически и хронически депривированных юношей и девушек формируется либо негативное, либо конфликтное отношение к себе (гипотеза 3), исследованное по МИС, проверялось с использованием коэффициента ранговой корреляции r s-Спирмена (§ 3.3.3).
У юношей при материнской депривации снижается отраженное самоотношение (р=0,01), т.е. доверие к другим людям, что заставляет их становиться более самостоятельными (р=0,04) и уверенными в себе (р≥0,0001), а также снижаются показатели внутренней конфликтности (р=0,03) и самообвинения (р=0,03), при этом у них формируется конфликтный смысл «Я». Отцовская депривация у юношей повышала самоценность (р=0,03) и уверенность в симпатии к ним других людей (р=0,03), но снижала принятие себя (р=0,03), одновременно с этим у них наблюдался самый низкий показатель самообвинения (р=0,03), вследствие чего формировался позитивный смысл «Я». Самые низкие показатели (при р≤0,05) практически по всем компонентам позитивного самоотношения (кроме открытости) и самые высокие показатели внутренней конфликтности (р=0,01) и самообвинения (р=0,01) выявлены у юношей, переживших родительскую депривацию, что способствует формированию негативного смысла «Я».
Эпизодическая материнская депривация приводит девушек к желанию изменяться (р=0,002) при повышенной внутренней конфликтности (р=0,03). При этом высокое самоуважение (р=0,01) девушек сопровождается невысокой симпатией к себе (р=0,01), что свидетельствует о конфликтном смысле «Я». При отцовской депривации у девушки снижается принятие себя (р=0,02) такой, какая она есть, а, следовательно, и симпатия к себе, но повышается самообвинение (р=0,01), значит формируется негативное отношение к себе. Родительская депривация формирует у девушек ригидную Я-концепцию, нежелание меняться, даже в лучшую сторону (р=0,047), но при этом не возникает чувство вины (р=0,01), наоборот, они еще больше симпатизируют себе (р=0,04), однако имеют низкое самоуважение (р=0,03), что указывает на конфликтный смысл «Я». Стиль воспитания отца слабо коррелирует с компонентами самоотношения эпизодически депривированных девушек, а стиль воспитания матери – с компонентами самоотношения юношей.
Хроническая депривация, независимо от ее причины, формирует у юношей амбивалентное отношение к себе, при этом, если в детстве юноши пережили развод родителей, то они становятся более закрытыми, конформными (р=0,02), если же пережили смерть отца, то снижается доверие к другим людям (р=0,04). Юноши, рожденные вне брака, принимают себя, но при этом у них повышено самоуничижение, что свидетельствует о конфликтном смысле «Я». Развод родителей, в отличие от других причин разлуки с отцом, формирует у девушек, так же как и у юношей выраженную мотивацию социального одобрения (р=0,001). При этом девушки недостаточно уверены в себе (р≥0,0001), неудовлетворены своими возможностями и сомневаются в своих способностях, что отражает их конфликтный смысл «Я». Рождение девочки вне брака вызывает у нее чувство вины, снижает уважение к себе (р=0,03), при высокой аутосимпатии и, как следствие, она имеет конфликтный смысл «Я». Девушки, пережившие смерть отца более уважительно относятся к себе (р=0,03), чувствуют себя увереннее (р=0,01) и комфортнее, чем девушки, пережившие развод родителей. Высокое самоуважение, аутосимпатия и низкое самоуничижение этих девушек показывает позитивный смысл их «Я». Стили воспитания родителей не имеют связей с компонентами самоотношения хронически депривированных юношей и девушек.
Полученные результаты подтверждают третью гипотезу о том, что в зависимости от видов семейной депривации (материнской, отцовской, родительской) формируется либо негативное, либо конфликтное отношение к себе. Эпизодическая депривация (родительская у юношей и отцовская у девушек) формирует негативное отношение к себе. Материнская депривация способствует становлению конфликтного смысла «Я» у юношей и девушек, а родительская – только у девушек. Эпизодическая отцовская депривация у юношей формирует позитивный смысл «Я». Установлено неоднозначное влияние хронической отцовской депривации на отношение к себе юношей и девушек.
Для проверки гипотезы 4 об аффективно нагруженных образах родителей и их связи с образом «Я» (§ 3.3.4) использовалась методика МИС, на утверждения которой вместо отца и матери отвечали юноши и девушки так, как на них ответили бы их родители (см. табл.2).
Связь между образом «Я» и образами родителей определялась с помощью линейного коэффициента корреляции r-Пирсона, а различие между группами в восприятии родителей исследовалось с помощью t-критерия Стьюдента.
Эпизодически депривированные и недепривированные юноши наделяют свои внутренние объекты (образы отца и матери) позитивным смыслом, а хронически депривированные юноши – конфликтным смыслом.
Образ матери эпизодически депривированных девушек имеет конфликтный смысл (высокие показатели по самоуважению и самоуничижению), образ отца – позитивный. Недепривированные девушки приписывают родителям позитивный смысл (высокие показатели по самоуважению и аутосимпатии и низкие показатели по самоуничижению), а хронически депривированные – негативный (низкие показатели по самоуважению (р=0,002) при высоких показателях по самоуничижению (р=0,01)).
Таблица 2
Средние значения показателей МИС, приписываемых отцу и матери юношами/девушками
| Шкалы и факторы второго порядка МИС | Эпизодически депривированные | Хронически депривированные | Недепривированные | |||||||||
| Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | Юноши | Девушки | |||||||
| отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | |
| Закрытость/открытость | 5,9 | 7,4 | 6,3 | 6,8 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 7,4 |
| Самоуверенность | 7,1 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | ||
| Саморуководство | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 6,5 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 6, 9 | ||
| Отраженное самоотношение | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 7,7 |
| Самоценность | 7,2 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | |||
| Самопринятие | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | ||
| Самопривязанность | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,3 |
| Внутренняя конфликтность | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 5,7 | 4,9 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Самообвинение | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | ||
| Ι.Самоуважение | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | |
| ΙΙ.Аутосимпатия | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | ||
| ΙΙΙ.Самоуничижение | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 4,6 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,8 |
У эпизодически депривированных юношей, имеющих негативный смысл «Я» образы отца и матери позитивны, при этом выявлено пять связей с аффективным образом отца: прямые связи по саморуководству (р=0,003), отраженному самоотношению (р≥0,0001), самоценности (р=0,01), внутренней конфликтности (р≥0,0001), обратная – по самопривязанности (р=0,03) и одна связь в тенденции по самообвинению (р=0,054). Связи по модальностям – самоуважению и самоуничижению (р≥0,0001) положительны. Также получены только положительные связи образов «Я» и матери по параметрам самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самоценности, внутренней конфликтности и по модальности «самоуважение» (все связи на уровне р≤0,03). Следует подчеркнуть, что у эпизодически депривированных юношей образ «Я» тесно связан с внутренними объектами – образом отца и образом матери. Не совпадают связи по самопривязанности, самоуничижению (обнаружены только в паре «Я»–отец) и по самоуверенности (обнаружены только в паре «Я»–мать). Отсутствуют связи по открытости, самопринятию и по модальности аутосимпатия.
У хронически депривированных юношей, имеющих конфликтный смысл «Я», а также конфликтный смысл образов отца и матери, выявлены только две связи между «Я» и образом отца по самоуверенности (р=0,02) и внутренней конфликтности (р=0,003), а также одна связь по самопривязанности (р=0,001) между образами «Я» и матери. По большинству параметров самоотношения связи отсутствуют.
У недепривированных юношей, имеющих позитивный смысл «Я», а также позитивный смысл образов отца и матери, выявлены положительные связи между «Я» и образом отца по параметрам самоценности (р=0,03), самопринятия (р=0,04), самообвинения (р=0,001), а также две связи по модальностям – аутосимпатии (р=0,01) и самоуничижению (р=0,01), в тенденции – по модальности самоуважения (р=0,058). Важно отметить, что у недепривированных юношей по всем параметрам МИС (кроме параметра «закрытость/открытость») между образом «Я» и образом матери обнаружены статистически значимые связи (р≤0,03). Отсюда следует, что коррелируют и все три модальности самоотношения – самоуважение, аутосимпатия и самоуничижение (р≥0,0001). Отдельно выделенных связей между образом «Я» и аффективно нагруженным образом отца не выявлено, если такие связи и есть, то они всегда дублируются связями между образами «Я» и матери.
У эпизодически депривированных девушек выявлено семь связей между образом «Я», который имеет конфликтный смысл и позитивным образом отца по таким параметрам как открытость/закрытость, саморуководство, самоценность и самообвинение и по всем модальностям – самоуважению, аутосимпатии и самоуничижению. Все связи – на уровне р≤0,01. Связи между «Я» и образом матери, который нагружен конфликтами, выявлены по саморуководству (р≤0,001), самопринятию (р=0,01), самообвинению (р=0,02), в тенденции – по самоуверенности (р=0,57), а также по модальностям – самоуважению (р=0,001) и самоуничижению (р=0,02).
У хронически депривированных девушек связаны позитивный образ «Я» и негативный образ отца по параметрам открытости/закрытости, самоуверенности, отраженного самоотношения, самоценности, самопринятия, а также по модальностям самоуважения и аутосимпатии. Все связи – на уровне р≤0,03. Взаимосвязи «Я» и мать обнаружены по отраженному самоотношению, самопринятию, самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинению, а также по всем модальностям (р≤0,01).
У недепривированных девушек обнаружено пять связей между «Я» и образом отца по параметрам: саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, внутренняя конфликтность на уровне р≤0,01. Две связи в тенденции – самопривязанность и самообвинение (р=0,054). Выявлены связи по модальностям «аутосимпатия» и «самоуничижение» (р≤0,01). Одна связь в тенденции по самоуважению (р=0,055). Взаимосвязи «Я» и мать выявлены по отраженному самоотношению и самопринятию, а также две связи по модальностям самоуважения и аутосимпатии (р≤0,02). Все связи прямые.
Несмотря на наличие корреляций, внутренние объекты эпизодически депривированных юношей и хронически депривированных девушек находятся в оппозиции образу «Я». У девушек при позитивном смысле «Я», образы родителей негативны, у юношей, наоборот, при негативном смысле «Я» внутренние объекты позитивны. Значительное поддержание положительного образа «Я» при характерном только для эпизодически и хронически депривированных девушек усилении закрытости (шкала открытость/закрытость МИС) может создавать иллюзию внутреннего благополучия. На самом деле оказывается, что девушка поддерживает ценность собственного Я посредством установления связи с закрытостью отца, которому она доверяет, поскольку его образ нагружен позитивным смыслом; чем больше отцовская конформность и защитное поведение, которые соответствуют высоким показателям по этой шкале, тем выше мотивация социального одобрения у депривированной девушки. У хронически депривированных юношей по большинству параметров самоотношения связи между объектами отсутствуют.
Полученные результаты подтверждает нарушение связности внутренних объектов у депривированных юношей и девушек. Субъектность недепривированных юношей и девушек характеризуется особым состоянием внутренней связанности (все три объекта позитивны) и дублирующие связи поддерживают как позитивные, так и негативные аспекты образа «Я», вследствие чего, субъект интегрирует в себе самые разные черты, обеспечивая полноценное развитие личности.
Для проверки гипотезы 5 о том, что существуют различия в отношении к отцу и матери, при этом связь между отношением к себе и к родителям остается положительной, использовался метод ранговой корреляции Спирмена (§ 3.3.5). Различие в отношении к родителям между группами определялось с помощью углового преобразования Фишера – φ*. Отношение к себе и родителям измерялось по методике «Незаконченные предложения» (см. рис.2).
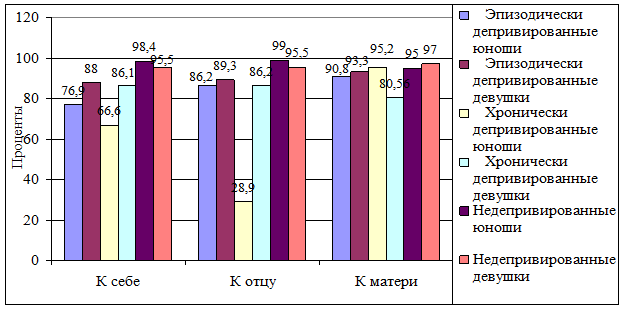
Рис.2. Показатели позитивного отношения юношей и девушек к себе, к отцу и матери, полученные по методике «Незаконченные предложения» (в процентах от выборки)
Значительные различия выявлены в отношении к отцу и матери у эпизодически депривированных и недепривированных юношей. У последних оно более позитивно (φ*=2,32; р=0,01 и φ*=2,26; р=0,01 соответственно). Между хронически и эпизодически депривированными юношами обнаружены различия только в отношении к отцу (φ*=2,79; р=0,001) – хронически депривированные юноши хуже относятся к своим отцам, чем эпизодически депривированные.
По сравнению с юношами, у девушек немного другая картина. Результаты исследования показали, что периодические расставания с отцом или (и) матерью в полной семье не отражаются на отношении девушек к родителям, не выявлены статистически значимые различия между ними и недепривированными девушками. Однако у хронически депривированных девушек отношение к отцу (φ*=2,16; р=0,02) и матери (φ*=1,96; р=0,03) хуже, чем у эпизодически депривированных девушек, у них, как и у депривированных юношей, отношение к отцу несколько хуже, чем отношение к матери.
Отношение к себе и к отцу коррелирует (при р≤0,05) у эпизодически депривированных и недепривированных и не коррелирует между собой у хронически депривированных юношей и девушек. Отношение к себе и к матери коррелирует (при р≤0,05) во всех группах девушек и не коррелирует между собой ни в одной из групп депривированных юношей.
Для проверки внутренней валидности исследования, прежде всего показателей дифференцированного отношения юношей и девушек к родителям (определялось с помощью методики «Кодирование», см. рис. 3) использовался метод ранговой корреляции Спирмена. Различие в отношении к родителям между группами определялось с помощью углового преобразования Фишера – φ*.
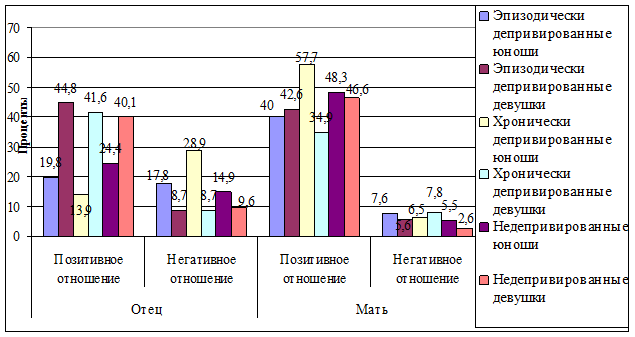
Рис. 3. Показатели отношения к отцу и матери юношей и девушек по методике «Кодирование» (в процентах)
было установлено, что по показателю «позитивное отношение к отцу и к матери» эпизодически депривированные юноши также позитивно относятся к отцу и к матери как и недепривированные юноши. Хронически депривированные юноши хуже относятся к отцу, по сравнению с эпизодически депривированными юношами (р≥0,0001), при этом к матери, наоборот, их отношение максимально позитивно (р≥0,001), что согласуется с выводами М.Ю.Казарян, А.И.Сайфугалиевой, о том, что у детей из неполных семей складывается особое отношение к матери, вследствие отсутствия отца. У них теплые, доверительные отношения, даже теплее чем у детей из полных семей.
У эпизодически депривированных девушек отмечаются более высокие показатели позитивного отношения к отцу, по сравнению с недепривированными девушками (р=0,002), и одинаково позитивное отношение к матери. Отношение к отцу хронически депривированных девушек не отличается от эпизодически депривированных девушек, при этом отношение к матери, по сравнению с остальными группами девушек − ниже.
По показателю «негативное отношение к отцу и матери» эпизодически депривированные юноши более негативно относятся к отцу (р=0,048) и к матери (р=0,015) по сравнению с недепривированными, а хронически депривированные юноши имеют самые высокие показатели по негативному отношению к отцу. Негативное отношение к матери у хронически депривированных юношей такое же, как у эпизодически депривированных.
У девушек не выявлены различия по негативному отношению к отцу. Отношение к матери более негативно у эпизодически депривированных девушек по сравнению с недепривированными девушками (р=0,015). Различия с хронически депривированными девушками отсутствуют.
Было обнаружено, что у эпизодически депривированных юношей отношение к себе (и позитивное, и негативное) полностью и напрямую связано с отношением к отцу, а также существует прямая связь между негативным отношением к себе и к матери (р≥0,0002).
Отношение к себе хронически депривированных юношей связано с негативным отношением к отцу (р=0,02) и позитивным отношением к матери (р=0,001), а у девушек выявлена связь только между позитивным отношением к себе и к отцу, при этом негативное отношение к матери имеет обратную связь с негативным отношением к себе (р=0,046).
У недепривированных юношей, а также у эпизодически депривированных и недепривированных девушек отношение к себе полностью коррелирует с отношением к родителям. Из этого следует, что внутренние связи между образами «Я», отца и матери у недепривированных юношей и девушек обнаруживают себя в наличии тесной связи между отношением к себе и отношением к своим родителям. Напротив, депривационный опыт существенно обедняет как внутренние связи, так и внешние отношения с родителями, когда отношение к себе не регулируется отношением к отцу (хронически депривированные девушки), отношением к матери (эпизодически депривированные юноши) или отношением к обоим родителям (хронически депривированные юноши).
В заключении диссертационной работы подводятся основные итоги исследования и формулируются следующие выводы:
1. Установлено, что семейная депривация представляет собой психическое переживание утраты эмоциональной связи в результате пространственного разделения со значимыми объектами или отчуждения от них, которое возникает при разлуке с семьей или одним из родителей и приводит к устойчивому снижению ценности «Я».
2. Выявлена связь между компонентами и модальностями структуры самоотношения личности в поздней юности и факторами семейной депривации – сроком разлуки, попечением ребенка и возрастом начала разлуки. Показано, что разный депривационный опыт и его длительность снижают показатели отношения к себе, причем, чем дальше степень родства человека, опекающего ребенка в период отсутствия родителей, тем ниже самоуважение и аутосимпатия и выше самоуничижение.
3. Обнаружено, что у всех юношей и девушек, переживших в детстве семейную депривацию, снижено позитивное и повышено негативное самоотношение. Исключение составляют хронически депривированные девушки, у которых выявлен позитивный смысл «Я». Доказано, что негативное отношение к себе у эпизодически депривированных юношей и амбивалентное отношение к себе у хронически депривированных юношей сохраняется при переходе от детства к юности. У девушек эффективнее срабатывают механизмы психологической защиты личности, поэтому отношение к себе остается стабильно позитивным, либо меняется с конфликтного на позитивное, как это наблюдалось у эпизодически депривированных девушек.
5. Показано, что виды эпизодической депривации (родительская у юношей и отцовская у девушек) формируют негативное отношение к себе. Материнская депривация способствует становлению конфликтного смысла «Я» у юношей и девушек, а родительская – только у девушек. Эпизодическая отцовская депривация у юношей формирует позитивный смысл «Я». Установлено неоднозначное влияние хронической отцовской депривации на отношение к себе юношей и девушек.
6. Подтверждено наличие различий между депривированными и недепривированными юношами и девушками в представлении о себе и о родителях. Внутренние образы хронически депривированных девушек нагружены негативным смыслом, а юношей – конфликтным. При эпизодической депривации у девушек формируется позитивный образ отца и конфликтный образ матери, а у юношей, как и у недепривированных юношей и девушек, позитивные образы обоих родителей. У депривированных юношей и девушек связи между внутренними объектами нарушены.
7. Определено, что у недепривированных юношей/девушек и эпизодически депривированных девушек отношение к себе значимо коррелирует с отношением к родителям. У хронически депривированных юношей/девушек и эпизодически депривированных юношей связь между отношением к себе отсутствует либо с одним, либо с обоими родителями. При этом установлено, что хронически депривированные девушки и эпизодически депривированные юноши менее позитивно относятся к родителям. Хронически депривированные юноши демонстрируют негативное отношение к отцу и самое позитивное из всех юношей отношение к матери.
По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
I. Статьи из перечня ведущих научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ:
1. Рубченко А.К. Полоролевая идентификация юношей и девушек, переживших в детстве семейную депривацию // Вестник Костромского университета. –2007. №2. – С. 76-81.
II. Научные статьи, доклады, тезисы:
1. Рубченко А.К. Самоотношение как фактор формирования отношения к родителям в период поздней юности // Теоретические и прикладные проблемы психологии личности: сб. матер. Междунар. научно-практической конференции, – Пенза, 2004. – С.98-100.
2. Рубченко А.К. Проблема детско-родительских отношений в зарубежной психологии // Психолог в детском саду. –2005. №2. – С.84-98
3. Рубченко А.К. Особенности самоотношения и отношения к родителям в поздней юности // Теоретические и прикладные проблемы психологии личности: сб. статей Всероссийской научно-практической конференции, – Пенза, 2005. – С.115-118.
4. Рубченко А.К. Проблема детско-родительских отношений в отечественной психологии // Психолог в детском саду. –2005. №4. – С.98-114
5. Рубченко А.К., Харламенкова Н.Е. Значимость влияния отца на отношение ребенка к себе в процессе взросления // Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей / Под ред. проф. А.В. Карпова. ЯрГУ, – Ярославль, 2006. – С.234-241
6. Рубченко А.К. Генезис самоотношения юношей и девушек, переживших в детстве разлуку с родителями // Теоретические и прикладные проблемы психологии личности: сб. статей Всероссийской научно-практической конференции, – Пенза, 2006. 178 с.– С.72-74
7. Рубченко А.К. Влияние разлуки с родителями в детстве на структуру самоотношения личности в поздней юности // Психологические проблемы развития личности в изменяющейся России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 20–23 сентября 2006 г. / Под ред. В.В. Аншаковой. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – С. 61–63.
 2015-09-06
2015-09-06 380
380






