Раньше историки философии относили Михаила Ивановича Владис-лавлева (1840—1890) чуть ли не к религиозным философам. В современных справочниках этого уже нет, но еще в 1937 году Г. Флоровский пишет: «И впоследствии из духовных академий долгое время выходили и университетские профессора философии — протоиерей Ф. Сидонский и позже М. И. Владиславлев...» (Флоровский, с. 279).
В действительности Владиславлев отучился в Санкт-Петербургской духовной академии всего два года и, как пишет Словарь П. Алексеева: «По одной версии его исключили в 1861 "за недисциплинированность" (конфликт с преподавателем греческой словесности), по другой — он добровольно "уволился" ввиду стремления к получению другой, философской специальности» (Алексеев. Философы, с. 184).
Однако самое решительное свидетельство в пользу того, что он светский философ, все-таки дают его собственные сочинения. Никакой религиозности в них нет. Даже в магистерской диссертации «Основные направле-
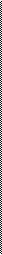 Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
 ния в науке о душе», опубликованной в том же 1866 году, что и исследование Ушинского, он исключительно светский мыслитель, правда, считающий, что душа есть. В этом отношении он всю жизнь был сторонником того, что первоосновой мира является Дух. Возможно, наиболее краткой, но исчерпывающей характеристикой Владиславлева как философа являются слова В. Приленского:
ния в науке о душе», опубликованной в том же 1866 году, что и исследование Ушинского, он исключительно светский мыслитель, правда, считающий, что душа есть. В этом отношении он всю жизнь был сторонником того, что первоосновой мира является Дух. Возможно, наиболее краткой, но исчерпывающей характеристикой Владиславлева как философа являются слова В. Приленского:
«Будучи профессором университета, Владиславлев читал лекции по логике, психологии, истории философии, метафизике, этике и философии духа. Как явный и последовательный противник материализма, он подчеркивал в них роль спиритуалистического фактора, склоняясь к неоплатонической традиции» (При-ленский, с. 90).
Владиславлев именно «подчеркивал» роль духа, но при этом он всю жизнь был занят наукотворчеством. Создание науки о душе было для него в каком-то смысле даже важнее души и всего, что с ней связано. Я бы даже так сказал о нем — он сочувственно относился к душе и к тому, что творили с ней в то время горние стрелки — охотники на души. Как можно сочувственно относиться к бедам души?! Будто душа — это какой-то политический борец, которому здорово доставалось от врагов или государства. Душа — это был он, но настолько увлеченный мечтой о науке, что позволял затравливать собственную душу...
Конечно, я не точен и вообще не прав. Владиславлев все-таки пытался создать именно науку о душе, и в этом его большая заслуга. Ради этого он и не ввязывался в откровенные споры, он просто делал и делал свое дело. Пожалуй, самое верное будет сказать, что он продолжил то дело, которое начал Кавелин в «Задачах психологии», выведя это наукоучение от общих задач к «логике» науки, то есть развернув их в подробный учебный курс. В этом смысле его учебник психологии можно бы считать классическим, если бы только он не был полностью выкинут из употребления психологами, изучающими психологию, а не душу.
Тем не менее, о том, как писал Владиславлев о душе, можно составить себе мнение вот по такому высказыванию Эрнеста Радлова:
«Начиная с 70-х годов, появляются прямые защитники психологии. Диссертация Г. Струве "Самостоятельное начало душевных явлений" (М., 1870), вызвавшая резкие критические отзывы проф. Усова и Н. Аксакова, была явлением симптоматичным, появившаяся несколько раньше (в 1866 г.) диссертация Владиславлева "Современные направления в науке о душе " не вызвала такого шума, вероятно, вследствие того, что изложение Владиславлева имело характер исто-рико-критического, а не догматического исследования...» (Радлов. Очерк, с. 114).
О книге польско-немецко-русского философа Генриха Струве я рассказывать не хочу, потому что он был «подспудным материалистом», как о нем тогда писали, а материалистическое понятие о душе мне больше не интересно. За ним пути к душе нет. А вот о Михаиле Ивановиче Владиславлеве можно рассказать и подробнее. И то, что он не вызывал явного приятия или неприятия у какой-то из политических партий той поры, возможно, означает, что этого исследователя по старой русской привычке тоже просмотрели.
Глава 4. Логика науки о душе. Владиславлев
 Итак, начну с исходного понятия души, которым пользовался сам Владиславлев, ведя свои исследования. Если его не принять в рассмотрение, вся остальная оценка его трудов будет искажена. Это понятие задает как бы начальную точку опоры, от которой он и строил все остальные рассуждения. Это исходное понятие нигде не было им выведено, поскольку он не завершил свой главный труд — третий том «Психологии», где и должен был его описать. Какова судьба третьего тома, я не знаю, но в «Предисловии» к первому тому он четко назвал задачу, ради которой и трудился всю жизнь:
Итак, начну с исходного понятия души, которым пользовался сам Владиславлев, ведя свои исследования. Если его не принять в рассмотрение, вся остальная оценка его трудов будет искажена. Это понятие задает как бы начальную точку опоры, от которой он и строил все остальные рассуждения. Это исходное понятие нигде не было им выведено, поскольку он не завершил свой главный труд — третий том «Психологии», где и должен был его описать. Какова судьба третьего тома, я не знаю, но в «Предисловии» к первому тому он четко назвал задачу, ради которой и трудился всю жизнь:
«Это сочинение задумано мною в трех томах: первый и второй, издающиеся теперь в свет, обнимают самые главные группы душевных состояний, теоретическую и практическую деятельность души; за ними, по моему плану, должен следовать еще третий том, в котором, кроме анализа оставшихся нерассмотренными вопросов, например, о нормальной и ненормальной психической деятельности, душевном развитии, индивидуальных особенностях и так далее, должен быть поставлен и посильно разрешен вопрос о душе вообще.
Но так как и в этих двух томах мой взгляд на душевную деятельность определился и содержание их представляет само по себе нечто цельное...» (Владиславлев. Психология, т. 1, с. III).
Все это позволяет уверенно судить, что в самом общем виде Владислав-лев понимал душу так, как это мелькает там и тут на протяжении всего учебника. Как пример приведу выдержку из второго тома, к которой еще придется вернуться чуть позже:
«Было бы очень странно, если бы душа, столь чуткая к ней вообще (к музыкальной гармонии — АШ), не чувствовала гармонии и дисгармонии своей деятельности с состояниями других себе подобных существ» (Владиславлев. Психология, т. 2, с. 155).
Однозначно видно, что человек для Владиславлева — это душа, живая душа, как говорилось, и что душа — это существо, которое можно исследовать через его проявления, в частности, через некоторые способности. Из этого понятия он и исходит во всех своих трудах, начиная с самых ранних.
Вот теперь можно приступить к рассказу о той науке, которую всю жизнь создавал Михаил Иванович Владиславлев.
Уйдя из Духовной академии как раз в то время, когда ставился вопрос о возрождении философских факультетов, закрытых в 1850 году, он избирает стать профессиональным философом, университетским преподавателем. Именно в это время, в 1861 году, Памфила Даниловича Юркевича делают заведующим кафедрой философии в Московском университете, а Владиславлева и Троицкого отправляют стажироваться за границу.
После трехлетней стажировки в 1866 году Владиславлев пишет своего рода отчет о том, что изучил в Европе, который ему и засчитали магистерской диссертацией. Называлась она «Современные направления в науке о душе». А уже через два года, в 1868 году, Владиславлев защищает докторскую диссертацию «Философия Плотина». Впоследствии он пишет лучший учебник России по логике. И только после этого приступает к психологии.
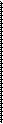 Круг четвертый — Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый— Век девятнадцатый
 Во всем этом есть действительно академический подход и замысел. Я думаю, что Владиславлев, видя, как слабы оказываются сторонники души в спорах с учеными естественниками, решил вооружить свой лагерь настоящим научным подходом и верно служил этой цели всю свою жизнь. Если не видеть этого, то «Современные направления в науке о душе» оказывается не слишком интересной работой, и невольно начинаешь понимать, почему она прошла незамеченной. Но если принять ее как подготовительный том к «Психологии», то становится ясно, что это чрезвычайно необходимая работа, в которой рассматривается все, что правит умами современников Владис-лавлева.
Во всем этом есть действительно академический подход и замысел. Я думаю, что Владиславлев, видя, как слабы оказываются сторонники души в спорах с учеными естественниками, решил вооружить свой лагерь настоящим научным подходом и верно служил этой цели всю свою жизнь. Если не видеть этого, то «Современные направления в науке о душе» оказывается не слишком интересной работой, и невольно начинаешь понимать, почему она прошла незамеченной. Но если принять ее как подготовительный том к «Психологии», то становится ясно, что это чрезвычайно необходимая работа, в которой рассматривается все, что правит умами современников Владис-лавлева.
Рассматривается спокойно, с большим знанием и через вопросы, задаваемые от понятия души, как живого существа, имеющегося у каждого из исследуемых. Естественно, наличие собственной точки зрения позволяет автору не попадаться под очарование различных модных школ, а значит, и задавать вопросы там, где они напрашиваются. Но как только ты начинаешь не пропускать вопросы, обаяние многих учений тускнеет, и становится ясно, что они вовсе не ответили на вопрос, что же такое душа.
Какие же школы психологии занимали умы людей в середине девятнадцатого века? Кратко перечислю все, что показывает Владиславлев.
Во-первых, материализм, который сейчас называется вульгарным. В частности, Владиславлев разбирает Фогта, немного Молешота, и Ноака.
Во-вторых, физиологический материализм. Это рассказ о Вундте и подобных ему школах экспериментальной психологии.
В-третьих, «физическая психология» Фехнера.
В-четвертых, психология Бенеке.
В-пятых, «реальная психология» Гербарта.
В-шестых, «идеальная психология» Гегеля.
И, наконец, «идеально-реальная психология» Фихте и Лотце.
В сущности, это прекрасный учебник истории психологии, который был бы полезен любому психологу, действительно желающему изучить то, как психология рассталась с душой, то есть избрала идти путем естественнонаучным. Ведь это время, когда наука еще топчется на росстани, на перекрестке, выбирая одну из возможных дорог. И почему-то избирает самую крайнюю — изучать психологию без души. Выбор совершенно политический, потому что именно в перечисленных Владиславлевым учениях лучшие умы Европы, ничуть не слабее Маркса и Энгельса, и уж тем более Сеченова, высказывали все возможные сомнения в том, что материализм верен.
Решение было просто: доказать вам ничего не получается, так отбросим все эти игры и изберем считать, что правы только мы! А все остальное — на свалку истории и забыть. А в итоге — полтора века бесплодных топтаний на месте, приведших к полному вырождению науки, изучающей теперь только саму себя. Еще раз привлеку внимание к тому, что стало предметом современной психологии: она изучает психологию! И даже создала неологизм — слово-новодел — психология человека.
Глава 4. Логика науки о душе. Владиславлев
 У человека нет психологии, и никто из психологов не сможет объяснить, что такое психология человека, разве что расскажет, что это то, что изучает в нем Психология. Вот это, что она изучает, и есть психология!..
У человека нет психологии, и никто из психологов не сможет объяснить, что такое психология человека, разве что расскажет, что это то, что изучает в нем Психология. Вот это, что она изучает, и есть психология!..
Настоящая психология, то есть наука, изучающая душу, осталась в том времени и за той росстанью, которую и описывает Владиславлев.
Я не буду подробно рассказывать об этой работе, приведу только саму постановку задачи, как видел и делал ее Владиславлев. Он действительно ученый и совсем не догматик. Его уход из Духовной академии вовсе не был случаен — он не намерен отметать то, что противоречит его взглядам, огульно. Наоборот, все разногласия должны быть исследованы, потому что они, скорее всего, признак не ошибки, а сложности изучаемого предмета.
«В психологии же многие взгляды на факты, по-видимому, составляют предмет личного вкуса.
Оттого так трудно найтись в современных направлениях психологии. Где искать оснований, по которым они делились бы на группы?
Однако, внимательно углубляясь в то, что кажется в науке о душе делом личного вкуса, мы находим, что и произвольные, по-видимому, разногласия не дело случая, что они возникли естественно и даже необходимо» (Владиславлев. Современные, с. 2).
Иными словами, именно в это время наука о душе подошла к такому своему расцвету, когда могла состояться, включи она в себя все составные части, как описания соответствующих граней того немыслимо большого и сложного предмета, что изучала. В том числе, и ту, что победила, — а именно описание взаимодействия души с телом через нервную систему.
«Следовательно, причин различия взглядов нужно искать или в самих приемах лиц наблюдающих, или в тех руководящих началах, с какими они приступают к исследованию.
Таким образом, методы и руководящие начала, назовем их метафизическими, главным образом служат причинами образования психологических школ и для нас должны служить путеводными признаками в группировании разных психологических учений» (Там же, с. 3).
Думаю, что Владиславлев прав, как никто. Победа материализма и естествознания была метафизической, то есть мировоззренческой. Мир-физика — выглядит иначе, если мы смотрим на него с другой точки зрения или с другой вершины. Но это тот же мир, и даже другие вершины — это части того же самого мира. Победить метафизически, перетащив тех, кто принимает участие в голосовании, к подножию своей вершины, а потом еще и уничтожить право метафизики на существование!.. Какая уж тут наука! Сплошной демократический выбор, причем, теми мозгами, что были в наличии, как во времена пролетарской революции.
«Вопрос о методе, какой должен быть приложен в исследовании души, привел, прежде всего, психологов к разномыслию. В этом отношении в психологии мы встречаем всевозможные попытки найти для нее плодотворный и верный метод.
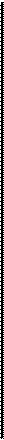 Круг четвертый— Слой первый — Век девятнадцатый
Круг четвертый— Слой первый — Век девятнадцатый
 Соседство с естественными науками не могло, конечно, остаться бесплодным для психологии. С возрастанием их успехов, ясность и точность их выводов сделались соблазнительны и для психологов» (Там же).
Соседство с естественными науками не могло, конечно, остаться бесплодным для психологии. С возрастанием их успехов, ясность и точность их выводов сделались соблазнительны и для психологов» (Там же).
Соблазны, соблазны!.. Души наши так падки на них!
Владиславлев — это классика русской психологии. Его трудно пересказывать, проще издать заново и перечитать. Он действительно не зря долгие годы занимался логикой. Переходя в начале восьмидесятых годов к созданию учебника психологии, он вкладывает в свой замысел всю силу своего логического ума. В этом смысле его «Психология» — пример простой и действенной «логичности» построения учебника, как я уже говорил, вытекающей из задач, поставленных Кавелиным. Кавелина он, кстати, поминает в этой книге.
Развитием идей Кавелина о культурно-исторической психологии являются и такие главы, как «Искусство как источник психологических сведений» и «Помощь психологу со стороны языка». На последней я, пожалуй, задержусь. Она стоит того.
«Сокровища психологических наблюдений и обобщений скрыты в языке. Именуя психические состояния и процессы, язык часто брал для этой цели слова от каких-либо физических действий, что особенно заметно в названиях более высоких и тонких психических состояний: например, сокрушение духа от крушити, разбивать на части,попечение— пещись, воскресение — кресити, то есть высекать огонь, понятие — имати, яти то есть хватать руками.
Для психолога важно подметить, какое первое было впечатление, вынесенное народом из наблюдения того или другого душевного явления, состояния, процесса, почему он и уподобил в своем воображении последние некоторым физическим состояниям и действиям. Разные названия, теперь имеющие специальный смысл и притом научный, первоначально имели иное общее значение, и наоборот, теперь имеющие общий смысл, прежде имели частное значение.
С течением времени внимание говорящих переносилось с одной стороны обозначаемого предмета на другую, и слово получало иное значение. Эти изменения в названиях разных духовных состояний происходили от расширения психологической наблюдательности народа, влагавшей в психологические термины в разное время различный смысл» (Владиславлев. Психология, т. 1, с. 21).
Вывод из этого делался такой, с которым я безоговорочно согласен, исходя из моих современных знаний профессиональной психологии:
«Давая слову, означающему душевное состояние, то или другое значение, язык руководится, конечно, бессознательным анализом сложного состояния и поэтому иногда выдвигает один элемент его, иногда другой. Если с этой стороны заглянуть в язык, то окажется, что всякий народ имеет свой психологический анализ, свою психологическую теорию и что он глубже понимает сложность душевных состояний, чем научная Психология» (Там же, с. 22).
На этом можно было бы и завершить рассказ о Михаиле Ивановиче Владиславлеве, но я хочу показать один пример того, как он предполагал исследовать душу. Я уже приводил из этого места определение души как
Глава 5. Дух осуществившийся. Соловьев
 существа, способного чувствовать гармонию. Что такое эта греческая «гармония», мы можем только догадываться, хотя и любим использовать это слово. Но уже одно то, что мы его любим, говорит о том, что за ним скрывается какое-то понятие о душе, пусть и бессознательное. Дело ученого сделать его осознанным. Это и есть работа психолога со словом.
существа, способного чувствовать гармонию. Что такое эта греческая «гармония», мы можем только догадываться, хотя и любим использовать это слово. Но уже одно то, что мы его любим, говорит о том, что за ним скрывается какое-то понятие о душе, пусть и бессознательное. Дело ученого сделать его осознанным. Это и есть работа психолога со словом.
На самом деле Владиславлев посвящает исследованию гармонии огромный раздел во втором томе Психологии. Я приведу лишь выдержки из заключения пятой главы.
«Однако, не странно ли, что закон гармонии, имеющий место лишь в отношении к звукам, прилагается к взаимоотношениям духовных существ. Все наши обобщения в этом роде не суть ли плоды только одной фантазии?
Но, во-первых, за нас язык, который отношения любви по преимуществу уподобляет гармонии, а отношения вражды, ненависти называет раздором, разногласием. Про людей, составивших крепкий неразрывный союз говорят, что они сошлись, про людей, враждующих между собою, — что они разошлись. Язык говорит об откликах, которые дает одна душа на состояния другой, и прямо о гармонии сердец и душ» (Владиславлев. Психология, т. 2, с. 154).
Мне очень важно это его приравнивание души и сердца, которому он, на самом-то деле, посвящает весь второй том Психологии. Мы уже встречали упоминание о сердце в значении души у Чаадаева и еще столкнемся с ним у религиозных философов и богословов. Но это лишь примечание. Главная и, возможно, самая глубокая мысль Владиславлева для меня эта:
«Для того, кто, подобно нам, убежден в идеальном содержании бытия, не может и существовать такого возражения, что гармония приложима лишь к звукам и не может иметь места между духовными существами.
Объективной гармонии вне уха, воспринимающего тоны, быть не может. Гармония и дисгармония суть состояния души, вызываемые в ней соответствующими деятельностями нервной системы» (Там же).
Думаю, что в этом коротком высказывании заложена целая программа для действительной психологической науки о связи души с телом. И это есть ответ Владиславлева всем тем, кто требовал изучать только работу нервной системы. Ответ этот есть вопрос: а зачем?
Зачем вам что-то изучать, если оно не ведет ни к чему, кроме защиты диссертации и получения места возле общественной кормушки? Чтобы быть сытыми? Так идите в бизнес или торговлю, там сытнее!
 2015-05-22
2015-05-22 988
988








