Круг седьмой – Второй пояс – Насильники над собою и над своим достоянием
Еще кентавр не пересек потока,
Как мы вступили в одичалый лес,
Где ни тропы не находило око.
Там бурых листьев сумрачен навес,
Там вьется в узел каждый сук ползущий,
Там нет плодов, и яд в шипах древес.
Такой унылой и дремучей пущи
От Чечины и до Корнето[140] нет,
Приют зверью пустынному дающей.

Там гнезда гарпий, их поганый след,
Тех, что троян, закинутых кочевьем,
Прогнали со Строфад предвестьем бед.[141]
С широкими крылами, с ликом девьим,
Когтистые, с пернатым животом,
Они тоскливо кличут по деревьям.
«Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, –
Так начал мой учитель, наставляя, –
Знай, что сейчас мы в поясе втором,
А там, за ним, пустыня огневая.
Здесь ты увидишь то, – добавил он, –
Чему бы не поверил, мне внимая».
Я отовсюду слышал громкий стон,
Но никого окрест не появлялось;
И я остановился, изумлен.
Учителю, мне кажется, казалось,
|
|
|
Что мне казалось, будто это крик
Толпы какой-то, что в кустах скрывалась.
И мне сказал мой мудрый проводник:
«Тебе любую ветвь сломать довольно,
Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг».
Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»
В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: «Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток?
Мы были люди, а теперь растенья.
И к душам гадов было бы грешно
Выказывать так мало сожаленья».
И как с конца палимое бревно
От тока ветра и его накала
В другом конце трещит и слез полно,
Так раненое древо источало
Слова и кровь; я в ужасе затих,
И наземь ветвь из рук моих упала.
«Когда б он знал, что на путях своих, –
Ответил вождь мой жалобному звуку, –
Он встретит то, о чем вещал мой стих,[142]
О бедный дух, он не простер бы руку.
Но чтоб он мог чудесное познать,
Тебя со скорбью я обрек на муку.
Скажи ему, кто ты; дабы воздать
Тебе добром, он о тебе вспомянет
В земном краю, куда взойдет опять».
И древо: «Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.
Я тот,[143] кто оба сберегал ключа[144]
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,
Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.
Развратница[145], от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,
Так воспалила на меня придворных,
Что Август[146], их пыланьем воспылав,
|
|
|
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных
Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.[147]
Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!
И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»
«Он смолк, – услышал я из уст поэта. –
Заговори с ним, – время не ушло, –
Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».
«Спроси его что хочешь, что б могло
Быть мне полезным, – молвил я, смущенный. –
Я не решусь; мне слишком тяжело».
«Вот этот, – начал спутник благосклонный, –
Готов свершить тобой просимый труд.
А ты, о дух, в темницу заточенный,
Поведай нам, как душу в плен берут
Узлы ветвей; поведай, если можно,
Выходят ли когда из этих пут».
Тут ствол дохнул огромно и тревожно,
И в этом вздохе слову был исход:
«Ответ вам будет дан немногосложно.
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос[148] ее в седьмую бездну шлет.
Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.
Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листами,
Боль создают и боли той окно.[149]
Пойдем и мы за нашими телами,[150]
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.[151]
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень».
Мы думали, что ствол, тоскою мучим,
Еще и дальше говорить готов,
Но услыхали шум в лесу дремучем,
Как на облаве внемлет зверолов,
Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,
И слышит хруст растоптанных кустов.
И вот бегут,[152] левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.
Передний[153]: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой[154], который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,
Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в груду с ним смешался.
А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.
В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впились зубами на лету
И растащили бедные остатки.
Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:
«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»
Остановясь над ним, наставник мой
Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны
Струящий с кровью скорбный голос свой?»
И он в ответ: «О души, в эти страны
Пришедшие сквозь вековую тьму,
Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный,
Сгребите листья к терну моему!
Мой город – тот, где ради Иоанна
Забыт былой заступник; потому
Его искусство мстит нам неустанно;[155]
И если бы поднесь у Арнских вод
Его частица не была сохранна,
То строившие сызнова оплот
На Аттиловом грозном пепелище –
Напрасно утруждали бы народ.[156]
Я сам себя казнил в моем жилище».[157]
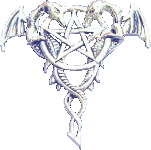
 2015-06-16
2015-06-16 573
573








