В названных выше работах нередко предлагаются модели, способные объяснить действие симпатий, возникающих на основе «родства душ», роль сходства и территориальной близости, а также процесс сближения и устойчивость восприятия диадической связи. Эти модели соответствуют гипотезам интуитивного порядка, валидизацию которых намереваются обосновать их авторы. Некоторые из этих моделей имеют очень общий характер, и их авторы считают, что они приложимы к любым видам отношений. Другие — более специфичны. Изложим их в соответствии с их уровнем сложности.
Рационалистические модели. Под этой рубрикой можно собрать несколько схем, объясняющих выбор партнера — в явной или неявной форме — своеобразным расчетом, при котором легкость и выгода играют более важную роль, чем издержки и жертвы, или по крайней мере равноценны им.
В этой перспективе роль соседства объясняется непринужденным, близким характером общения, что является следствием частых встреч и контактов (Но-mans, 1961; Zajonc, 1968). Роль сходства заключается в положительном подкреплении, которое дает нам согласие другого человека и его сходство с нами (Byrne, 1971; Clore, Byrne, 1974). Все -таки необходимо сразу же сделать две оговорки. Во Многих обстоятельствах, когда пространственная близость навязывается или оказывается слишком тесной и воспринимается отрицательно, как скученность или притеснение, она может вызвать отвержение (Schopler, Stockdale, 1977). Точно так же сходство может отвергаться или вызывать сожаление, если оно вызывает Фрустрацию^ чувство утраты своей оригинальности или если сходство относится к каким-либо аспектам или людям, обычно низко оцениваемым окружением (Novak, Lerner, 1968; Snyder, Fromkin, 1980).
|
|
|
186 Глава 5. Избирательные отношения
А. Влечение, его фильтры и последствия "\ 87
Другие работы часто подчеркивают роль всевозможных «вознаграждений», располагающих нас к другому человеку: красота, сексуальное наслаждение, помощь, покровительство, компетентность, престиж, которые могут уравновешиваться «издержками», более или менее тяжелыми: усилия, заботы, разочарования (Kelly, Thibault, 1978). Баланс выигрыша и убытка, с точки зрения авторов этих моделей, побуждает партнеров оценить реальный или виртуальный выигрыш от взаимодействия и рассмотреть альтернативные решения, дающие большее удовлетворение и требующие меньших издержек, если только это возможно.
Однако те же исследователи допускают модель взаимозависимости, согласно которой каждый должен учитывать интересы другого, вступать с ним в переговоры и даже включаться в процесс трансформации. Таким образом, возникают сравнительные стратегии, направленные на получение максимальной выгоды путем взаимных уступок.
|
|
|
Сказанное выше парадоксально подводит нас к модели справедливости. Эта модель действительно основывается на чувстве справедливости в восприятии того, что вносит и какие усилия прилагает каждый из партнеров. Справедливые отношения — самые счастливые и устойчивые, тогда как несправедливость служит источником дискомфорта как у того, кто ощущает фрустрацию, так и у его партнера, который нередко чувствует свою вину (Walster et al., 1976, 1978; Hatfield et al., 1979). Отсюда — неуверенные, ненадежные попытки восстановления равновесия. Некоторые сторонники этой модели считают, что она особенно подходит к таким отношениям, в которые партнеры включены умеренно и не подвергаются эмоциональным перегрузкам (Mills, Clark, 1982).
Эти оговорки ведут к инвестиционной модели, которую предложил Расбалт (Rusbult, 1980). Данный термин сохраняет экономическую коннотацию, одновременно вдохновляясь психологической теорией обязательств (вовлеченности, ангажированности) (Kiesler, 1971). Если баланс выигрышей и издержек определяет уровень удовлетворенности, то в основе прочности и устойчивости отношений лежит величина эмоционального, материального, временного вклада, на который соглашаются партнеры.
Ответы испытуемых на вопросы исследователя, который просит их подумать над своими отношениями, показывают, что и мера их вовлеченности в эти отношения в значительной степени зависит от того, что они в эти отношения вложили. Сохранение установившихся связей может привести к увеличению жертв, когда человек убежден, что стоит их принести. Так, известный процесс ослабления диссонанса, по-видимому, делает эту модель более сильной (Wicklund, Brehm, 1976).
Как оценить все эти модели, охотно использующие экономические термины-Шэрон Брем (Brehm, 1984) кратко характеризует их (по крайней мере некоторые) как «меркантильную перспективу любви». Так же обстоит и с дружбой, по мнению тех исследователей, которые, видимо, не знают Аристотеля и спокойно без него обходятся! В отношении дружбы можно задаться вопросом, действительно ли люди занимаются такими расчетами по поводу своих избирательных отношений, а если это так, то в какой момент они это делают? Утверждают, что огцуШе' ние недостаточной справедливости, по-видимому, ведет к неудовлетворенности, но возможно, что именно она побуждает нас оценить отношения, чтобы понять, справедливы ли они (Huston, Burgess, 1979).
Можно высказать и другие критические замечания: эти модели в очень большой степени пренебрегают субъективным аспектом взаимодействия, а также ролью контекста, уподобляя отношения людей разновидности рационализма. Кроме того, существование чисто альтруистических побуждений игнорируется или отрицается (Moser, 1994). Эти аргументы имеют еще более неопровержимый характер, когда исследование проводится в лаборатории с фиктивными партнерами в качестве стимулов, вне всякого конкретного взаимодействия. Что значит любовное или дружеское влечение в таких условиях? Этим несколько упрощающим работам противостоят исследования, основанные на прослеживании пути симпатий: они строят своеобразную процессуальную модель, исходя из ряда «фильтров» и фаз, когда согласие партнеров на некотором уровне обусловливает доступ к следующей ступени: сходство социальных характеристик, ощущение близости системы ценностей, конгруэнтности вкусов, ролей, стиля; возрастание интимности отношений. Эта модель одновременно подкрепляется изучением пар (Kerckhoff, Davis, 1962; Levinger et al, 1970) и дружеских диад (Duck, 1973; Duck, Craig, 1978). Все же и в этих моделях, как и в описанных ранее, взаимоотношения людей не рассматриваются в структурной перспективе. Это предстояло сделать Ньюкому.
|
|
|
Реляционная модель. Эта старая системная модель (Newcomb, 1960; 1961; 1971), конечно, остается самой сильной по объяснительной силе, так как она уже включает несколько аспектов названных выше моделей. Многие дальнейшие исследования лишь подтверждают некоторые достижения данной модели (в частности, Kenny, Kashy, 1994). По мнению Ньюкома, всякий процесс влечения вводит в действие три компонента, находящихся в динамическом взаимодействии: это оба партнера (являющиеся одновременно и источниками влияния, и объектами воздействия) и третий объект, человек или ценность, ибо никакая встреча не происходит в вакууме.
Отметим мимоходом, что эта схема — триада — представляет собой сам тип социально-психологического процесса. Третий член триады, о котором идет речь, является либо фактором посредничества и укрепления отношений, либо источником разногласий и напряжения.
В самом деле, поскольку восприятие постоянно сочетается с чувствами, каждый партнер приписывает другому некоторые аттитюды по отношению к себе, а также по отношению к тому, что для него важно. Вначале речь идет лишь о совокупности предположений, которые затем оказываются более или менее обоснованными. Отсюда проистекает взаимодействие равновесия и неравновесия (баланса и дисбаланса), связанное с различными переживаниями: удовлетворение, Дискомфорт или конфликт. Эту систему отношений можно отразить в простой графической схеме (рис. 5.1).
Исследователь символически отражает здесь три вознаграждающих процесса и определяет:
• вектор А — > В как оценку (положительную);
• вектор В — А как «установление взаимности» (здесь мы находим презумпцию взаимности, которая, по мнению Тагури, встречается часто);
• вектор В --- X как носитель информации, воспринимаемой благодаря презумпции сходства с А -> X.
Равновесие системы АВХ сразу обнаруживается на внутриличностном уровне; но на межличностном уровне эта система менее устойчива, поскольку она включает черты реального, а не только предполагаемого сходства.
|
|
|
А. Влечение, его фильтры и последствия -| 89

|
| а б
Индивидуальная Диадическая
система система
Субъект Л -<---------------- в (другой) СубъектЛ |
Объект X Объект X
Рис. 5.1. а - непрерывные векторы АВ, АХ символизируют влечение субъекта А
к субъекту В и его собственный аттитюд по отношению к содержательному объекту X.
Пунктирные векторы ВА, ВХ символизируют образ, который субъект А формирует
об аттитюде субъекта В по отношению к нему в отношении объекта X; б - дугообразные
полоски представляют возможные взаимодействия различных векторов
Нарушение равновесия может быть ослаблено тремя способами: либо уменьшением значимости спорного объекта, либо аутистическим искажением позиции партнера, либо, наконец, ослаблением связи и даже разрывом.
Всякая положительная связь, когда она уже установлена, имеет, впрочем, тенденцию сохраняться, поскольку она связана с с обменом положительными эмоциями: имеющийся у нас опыт вознаграждения, которое мы получаем от другого, выражается целым набором воспринимаемых нами знаков, и наоборот (et vice versa). Сознание, что мы являемся источником положительных эмоций для другого, само оказывается вознаграждением для нас. Из этого следует, что усиление или спад привязанности часто симметричны. Ньюком (Newcomb) подчеркивает, что эта система имеет одновременно и теоретическое и практическое значение. Если вместо абстрактного анализа психологических следствий влечения исходить из некоторых эмпирических констатации внутри формирующихся групп (например, приписывание другому благоприятных черт или презумпция его аттитюдов), можно получить признаки, предсказывающие родство душ некоторых индивидов. Эти признаки необходимо проверять прослеживанием отношений. Именно так обстояло дело при изучении студентов, причем при этом исследователю удалось валидизировать большую часть своих гипотез. Модель Ньюкома интегрирует напряжение между аутизмом и реальной основой симпатий, основанных на сходстве. Эта модель способствует также ответу на рекуррентную дилемму: воспринимаем ли мы другого как похожего на нас, потому что его любим, или любим его потому, что находим в нем сходство с собой (или, вернее, он кажется нам более близким к нашему идеалу, добавим мы, предвосхищая следующую модель). Ньюком понимает эти процессы как очень сложные и запутанные. Если реальное сходство, по-видимому, действительно вызывает влечение, поскольку его можно предвидеть, то влечение само порождает презумпцию сходства, которое всегда связано у нас с положительной оценкой другого. Точно так же мы предполагаем, что те, кого мы любим, отвечают нам взаимностью, и нас привлекают те люди, о которых мы думаем, что они нас ценя (Curtis, Miller, 1986). Как пишет Брем (Brehm, 1984): «Первоначальное влечение порождает воспринимаемое сходство, которое, в свою очередь, усиливает влече ние». Следовательно, мы имеем дело скорее с круговым процессом, а не с едини4 ным причинным вектором.
Как продолжение этой модели Сикорд и Бэкмэн (Secord, Backman, 1974) предложил схему интра- и интерперсональной когерентности, которая сочетает понятия равН°
весия, ослабления диссонанса, сходства и комплементарное™. По мнению авторов модели, стремление к когерентности управляет одновременно динамикой близости (симпатий, основанных на сходстве) и созиданием идентичности, придавая этой системе в высшей степени когнитивистскую тональность.
Схема Ньюкома не включала возможную роль комплементарности. Ее наиболее известная форма противопоставляет, с одной стороны, господство, инициативу, экспрессивность, а с другой стороны — зависимость, ожидание, восприимчивость. Это может навести на мысль разработать такую схему, которая, опираясь на парадигму Шутца (Schutz, 1960), имела бы целью дополнить модель равновесия.
Субъект X Субъект У
Аффективное выражение.^___________ _-------------- ^_ Выражение
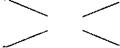 (или инициатива)
(или инициатива)
Комплементарность^Х^Комплементарность
Аффективное ожидание
(или восприимчивость) "^ ~ *" Ожидание
Модели идеальности. Мы уже говорили о гипотезе, согласно которой влечение может вызываться не столько точностью сходства, сколько образом нашего идеального «Я». В этой перспективе некоторые исследователи предложили модель идеальности, которую они стремятся валидизировать с помощью экспериментальных процедур или клинического подхода.
Опираясь в общем на некоторые аналитические концепты, эти исследователи сравнили (используя методику Q) личностные профили в отношении самооценки испытуемых, их идеала собственного «Я» и идеала «Я» своего лучшего друга (Thomson, Nishimura, 1951; Fiedler, 1953; Mac Kenna et al., 1956). Корреляции как будто бы подтверждают гипотезу. Но, с одной стороны, приписывание идеальных черт тем, кто нас привлекает, возможно, в такой же мере является следствием, как и причиной дружбы, любви — «идеализация». С другой стороны, возможно, культурные факторы стереотипии участвуют во всех наших оценках (Cronbach, 1956). Более поздние исследования тем не менее возвращаются к этой модели идеальности (Wetzel, Jusko, 1982; Murray, Holmes, Griffin, 1996). И результаты, как правило, свидетельствуют в пользу комплементарности партнеров, образующих пару. К этому нам еще придется вернуться.
Что касается клинических исследований, то они базируются на концепции Фрейда (Freud, 1914, переизд. 1921), на его анализе процессов идентификации, источника социальных связей и форм «выбора объекта». Не имея возможности осветить эти работы во всей их сложности, мы все же отметим, что, с одной стороны, всякий выбор включает нарциссическую составляющую, которая проявляется в идеале своего «Я», а с другой стороны, нас привлекают люди, способные реактивировать фигуры наших родителей, кормилиц и/или покровительниц, которых мы когда-то очень любили (выбор с помощью подкрепляющих критериев).
В этой перспективе интересны проницательные указания о межличностных отношениях, импликациях любви и ревности, которые высказывает в своей работе Лагаш (Lagache, 1962, t. IV, V). Весьма содержательный анализ клинических Исследований супружеских пар можно найти в работе Лемэра (Lemaire, 1979). Он Подчеркивает, что бессознательные защитные процессы переплетаются с первоначальной идеализацией, проявляющейся во многих случаях выбора супругов.
Модель эмпатии. Здесь речь идет уже не о причинно-следственном подходе, * о транзитивном смысле близости: прежде всего для субъектов — это пережива-
190 Глава 5. Избирательные отношения
А. Влечение, его фильтры и последствия 191
ние, воспринимаемое не как пассивная интроспекция, а как целевая направленность, интенциональность, действие, направленное на отдельного другого. Смысл этого процесса доступен также интуиции, симпатии, феноменологическому атти-
тюду.
В своем клиническом изучении процесса идентификации Фрейд (1921) неоднократно упоминает вчувствование, которое, по его мнению, играет большую роль в возможности проникновения в душу человека, другого, чем «Я» (Freud, 1921). Но Фрейд считает, что в этой проблеме мы еще далеки от полной ясности.
Параллельно этому Бергсон (Bergson, 1934) противопоставил дискурсивному интеллекту интуицию как «симпатию, переносящую нас внутрь объекта, позволяющую совместиться с тем, что в нем уникально, следовательно, невыразимо». Более точно Шелер (Scheler, trad. 1950) определял симпатию как функцию, позволяющую субъекту (я) понять другого (ты) в его «самости» и соединиться с ним, не сливаясь (мы). Он отграничивает симпатию от других видов идентификации, где такое слияние происходит. Точно так же, считает Шелер, происходит и в любви, которая никогда не сводится ни к желанию, ни к наслаждению, являясь актом духовности, причем любовь чаще бывает проницательной, чем слепой.
Это философско-психологическое течение до сих пор оказывает влияние, по крайней мере скрытое, на исследование и даже само наименование некоторых процессов, характерных для взаимоотношений людей. Это естественно наблюдается у авторов, стоящих на пересечении интерперсонологии и психоанализа, таких как Лэйнг (Laing, 1961) и Бинсвангер (Binswanger, 1971). Но это влияние можно заметить также у некоторых исследователей, которые специально занимались изучением эмпатии (Dymond, 1949; Maucorps, Bassoul, 1969). Мокор вполне справедливо отличает эмпатический подход от импрессионистического интуиционизма и от ощутимых последствий коннотации, свойственной термину «симпатия». Он придает почти оперативную значимость эмпатии, распространяя социометрический метод на наше аффективное восприятие внутри группы. Но тогда ее пространство выходит далеко за пределы избирательных отношений.
Наконец, можно считать родственными этой модели различные работы французских и американских ученых, которые исследуют предпосылки и возможные степени близости, а также выражение переживаний. Мы вернемся к этому, когда будем рассматривать отношения любви и дружбы.
 2015-06-05
2015-06-05 570
570








