X
«Царская наука» профессора Хейвуда (вместо предисловия)
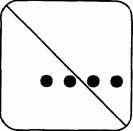
Один из очень мудрых людей древности на вопрос полусерьезной-полушутливой анкеты «Что есть самое удивительное?» ответил: «Самое удивительное — это политик, доживший до старости».
И века, протекшие с тех далеких, античных, времен, убедительно подтвердили верность этого афоризма. Редко, крайне редко крупный политик покидал этот мир в благости, тишине и покое, окруженный тихо-скорбными детьми и внуками и благодарными согражданами. Разумеется, тут речь идет не о политических чиновниках, мелких и крупных клерках, не о послушных исполнителях чужой воли, не о кабинетных («запечных») стратегах или паркетных шаркунах и не об обыкновенных карьеристах — из тех, кого разбуди среди ночи, в момент государственного переворота, и спроси, за какое он правительство, он ответит, на манер Талейрана: «За то, которое в данный момент у власти!». Эти-то ребята и до ста лет, плавно перетекая из одной политической команды в другую, способны прожить. Речь идет о Политиках с большой буквы. Александр Македонский, Авраам Линкольн, Жорж Дантон, Максимилиан Робеспьер, Наполеон, Джон и Роберт Кеннеди, Индира и Реджив Ганди, Анвар Садат, Патрис Лумумба, Сальвадор Альенде, Улоф Пальме... Им несть числа. Это о них, это об их трагических судьбах повествует тот афоризм. И наши соотечественники — не исключение. Ту мы на равных с Западом и Востоком. Редкий властитель «всея Руси» отправлялся в мир иной без «помощи» своих «верноподданных». Особо впечатляющие примеры: Павел I, Александр II, Николай II... И все «маршалы» «ленинской гвардии», эти «вершители судеб» XX столетия — Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский, да и самые «великие» из них — Ульянов и Джугашвили — все они ушли из жизни при весьма драматических, сдобренных криминалом, обстоятельствах.
|
|
|
Политика — дьявольски опасная профессия. И понятно почему. Ведь, одна из важнейших ее функций — согласование интересов в обществе. Интересов, часто взаимоисключающих, сталкивающихся лоб в лоб. Попробуй тут «согласуй» их, попробуй найти тот их «баланс», который обеспечил бы социальную гармонию, стабильность общественного развития. Тут какие решения не прими — всех все равно не устроишь. Нефтяным магнатам всегда будет казаться, что правителю можно было бы быть более благосклонным к ним, что можно было бы больше ограничить возможности их соперников — из сталелитейного клана, а «сталелитейщикам», естественно, будет казаться наоборот. И тогда те или другие, дабы качнуть миллиардодолларовую чашу весов в свою сторону, наймут классных (и обреченных, в свою очередь, на последующее уничтожение) киллеров — и вот уже мы видим на экранах телевизоров, как начинает медленно сползать по спинке сиденья открытого автомобиля тело еще секунду тому назад улыбавшегося Джона Кеннеди и как потрясенная и растерянная красавица Жаклин (нелепый, но понятный, чисто человеческий, жест!) бросится на капот автомашины — подобрать кусочки раздробленного черепа мужа.
|
|
|
Да, дьявольски опасная профессия эта политика.
И все-таки, и все-таки... Идут и идут в нее люди. Молодые, талантливые, полные сил и надежд. Идут, ибо это еще и увлекательнейшее, благороднейшее и вдохновенное занятие — творить Историю своей страны, своего народа. Здесь и стремление вырваться на простор свободной и масштабной деятельности — когда бы не «обстоятельства» владели тобой, а ты — «обстоятельствами», чтобы не события волокли тебя по жизненной колее, а ты управлял событиями. Чтобы по Маяковскому:
...с простынь, бессонницей рваных
срываться, ревнуя к Копернику
его, а не мужа Марьи Иваны,
считая своим соперником!
Деятельность в стане Коперников — вот что особенно манит, вот что особенно увлекает юные сердца и души... Конечно, потом, по прошествии лет, многие из кандидатов в Коперники остепенятся, а некоторые, между прочим, поймут и то, что не так уж плохо, не так уж зазорно найти свою тихую, добрую и прекрасную «Марию Ивановну» и что вообще можно вполне достойно прожить жизнь и не замахиваясь на профессии «мирового масштаба» (и слава Богу!). Но иные все же останутся в «большом мире» Коперников — с его большими надеждами и несмотря на таящиеся в нем опасности.
XI
Эту замечательную, эту прекрасную мечту молодых людей, стремящихся в коперниканский мир Большой Политики, блистательно выразил один из крупнейших политических деятелей в истории (имя в данном случае не важно!) в своем школьном сочинении «Размышление юноши при выборе профессии»: «...Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование... Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага... Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам».
«Жертва во имя всех» — вот что такое (или, вернее, чем должна быть) политика. «Наше счастье будет принадлежать миллионам» — вот возможная награда за участие в ней.
Я не случайно сказал: возможная награда. Ибо вполне возможен и другой, менее вдохновляющий итог. Да, конечно, настоящая политика может (и должна) начинаться с этих прекрасных намерений — «счастье миллионов». Но если «прекрасные намерения» не будут подкреплены «прекрасными» знаниями и умениями — быть Беде. И не только для вас лично (это было бы полбеды), но — для того сообщества сограждан, которое вы (вместе с вашими соратниками) собирались осчастливить.
Михаил Сергеевич Горбачев никаким «предателем» (что бы там ни говорили разные псевдо «левые») не был и ни по каким «рецептам, выписанным за океаном», не действовал. Он искренно хотел добра своим согражданам и своей стране. У него на самом деле были прекрасные намерения. Просто он не был готов (о чем, впрочем, сам вряд ли догадывался) к руководству по осуществлению масштабных Реформ, в которых нуждалась страна. Он ведь рос в той, командно-административной, системе, где подъем к высшим ступеням власти обеспечивался не творческой, а сугубо исполнительской деятельностью (с элементами мелкого и крупного интриганства), где главным в карьере политического деятеля было не решение реальных проблем, порождаемых социальными противоречиями, а верность «генеральной линии», что, на деле, означало линии ближайшего и высшего начальника. Это была та самая чиновно-иерархическая вертикаль, суть которой лучше всего передает знаменитый афоризм Н.К. Михайловского: «если на чиновную лестницу смотреть снизу вверх, вы увидите восходящую лестницу бар, если сверху вниз — нисходящую лестницу лакеев». Ясно, что на такой лестнице никак не мог появиться Реформатор. При такой системе не могли сложиться и те силы — интеллектуальные и организационные — которые были бы способны решить вставшие перед обществом проблемы. Не мог появиться, говоря строгим политологическим языком, Субъект трансформации. Вот почему в такой ситуации политическому лидеру надлежало действовать крайне осторожно («не навреди!»), идти по неведомой дороге истории, как по тонкому весеннему льду, как по минному полю, выверяя каждый свой шаг и вместе с соратниками обучаясь в ходе такого осторожного движения. Но, увы, узкий кругозор человека, игрою разного рода обстоятельств оказывающегося вдруг на самом верху бюрократической лестницы, как правило, не позволяет ему осознать свои возможности (весьма ограниченные) и уровень своей компетенции (весьма невысокий). К тому же ограниченность взращенного номенклатурой «вождя» дополняется обычно его тщеславием, его безмерной самоуверенностью и безграничным самомнением: ну, как же, он же не случайно оказался на самом верху — он же дальновиднее всех, он все знает, все понимает, все умеет...
|
|
|
Итог реформаторской деятельности Михаила Сергеевича известен. В общем, по Черномырдину: «Хотелось, как лучше, получилось, как всегда».
Еще раз: благородные Намерения должны быть дополнены Знанием. Знанием — той социально-политической машины, которой вы собираетесь управлять (или в управлении которой планируете участвовать). Знанием — опыта управления конкретными политическими институтами общества в разные эпохи и в разных ситуациях. Знанием — удач и неудач, побед и поражений политиков прошлого. Если уж вы решили затеять «перестройку», то, по крайней мере, надо представлять себе: ЧТО вы «перестраиваете» и ВО ЧТО «перестраиваете».
|
|
|
Политика — это прежде всего Наука, и требует соответствующего к себе отношения. Политический лидер — это, прежде всего, Ученый, знающий законы движения социально-политического бытия и творчески действующий в русле этих законов.
Сделать первые шаги в мир Политики, в мир Политической Науки вам поможет профессор Эндрю Хейвуд, автор предлагаемого вам учебника, одного из лучших современных учебников по политологии.
Вам легко и приятно будет идти по лабиринтам современной политической науки с этим опытным «экскурсоводом». Профессор Хейвуд умеет излагать непростые проблемы политической жизни, политического бытия с подкупающей ясностью. Он, как мало кто, умеет сочетать популярность своего рассказа со строгой научностью. Он не упрощает, не примитивизирует теорию в интересах ложно понимаемой «ясности». Он умеет вести за собой читателя, поднимаясь вместе с ним от простого к сложному, от элементарных, обыденных, жизненных представлений к сложным теоретическим построениям.
Подкупает его манера общения с читателем. Он не «поучает» его с высоты профессорской кафедры, не подавляет его усложненными (без нужды) научными выкладками, не ослепляет его блеском бесконечного ряда великих имен, не ошарашивает множеством точек зрения по тем или другим вопросам. То есть не делает ничего из того, что подчас свойственно молодым (и честолюбивым) политологам, стремящимся
XII
не столько быть понятными читателю, сколько показать себя и потрясти воображение бедного, начинающего учебу, молодого человека своей необыкновенной эрудицией. Профессор Хейвуд беседует с читателем, тихо и проникновенно — как друг, как его старший и умудренный товарищ. Вот посмотрите, как начинается его книга: «Политика есть интереснейшее дело, ибо все мы очень разные. Среди нас нет согласия в отношении того, как надлежит жить, кто и что должен получать от общества, кто достоин власти, как вообще должны быть распределены общественные ресурсы и что, наконец, лежит в основе общественной жизни — сотрудничество или конфликт. Люди чаще всего не согласны и в том, каким именно образом эти вопросы должны решаться... С точки зрения Аристотеля, все это делало политику «царской наукой» — наукой, с помощью которой можно улучшить жизнь и создать достойное общество. Политика, следовательно, — это прежде всего и главным образом общественная деятельность. Это всегда диалог — и никогда не монолог. Пусть отдельно взятые индивиды вроде Робинзона Крузо способны на многое — создать свое хозяйство, произвести предмет искусства и так далее; чего они не могут, так это заниматься политикой. Ибо политика, образно говоря, начинается лишь тогда, когда появляется Пятница». Вот так симпатично начинает профессор Хейвуд разговор о «царской науке», в котором профессор выступит, конечно же, многознающим «Робинзоном Крузо», а читатель — его верным и внимательным «Пятницей». Эта, сдобренная юмором, интонация доверительности, какого-то удивительного интеллектуального уюта не покинет вас до последних страниц книги.
Текст учебника лаконичен и вместе с тем полон. Автор не упускает ни одной существенной тонкости политической теории. Он успевает сказать все.
Он расскажет вам вначале о сути дела, а потом поставит вопросы. Вопросы нестандартные, поиск ответов на которые позволит вам глубже и многостороннее понять существо проблем. Вопросы — не столько для повторения и заучивания, сколько для дальнейшего, самостоятельного продумывания идей, изложенных учителем. Вот он рассказал, что такое политика. А затем просит подумать: «Если политика по сути своей социальна, почему не вся общественная деятельность политична? Почему представления о политике столь часто несли и несут в себе негативные ассоциации? Что можно сказать в защиту политики как деятельности вполне благородной и достойной? Возможен ли «конец политики»? Почему идея научного подхода к изучению политики всегда была столь популярной? Можно ли изучать политику объективно и без какой бы то ни было предвзятости?». Хорошие вопросы, не правда ли? Есть над чем поломать голову!
А после того, как вы, опираясь на материалы учебника, покрутитесь вокруг этих вопросов, автор — для закрепления прочитанного — на полях книги, в рамочке, зафиксирует самое главное для данной темы: важнейшие определения понятий, их взаимосвязи, начертит схемы, диаграммы, таблицы, наглядно демонстрирующие содержание проблем.
Полноте и доверительности бесед будет содействовать и то, что профессор пояснит вам, что политика это не просто законы, формулы, схемы, — это живая деятельность живых, реальных людей, а политическая теория — это одновременно и судьбы, и жизни людей, ее создающих. Вы поймете тогда, что морально-политическая теория Сократа — это не просто его взгляды, это — его поступки, это — вся его жизнь. Вы сможете не просто узнать, какие классификации политических режимов предложили Платон и Аристотель, но и вглядеться в их лица на публикуемых в книге портретах, узнать некоторые подробности их судеб из точных и лаконичных справок, даваемых автором учебника. Так строгие политические формулы обретают эмоциональную, человеческую окраску.
И самое, пожалуй, ценное здесь, что мыслители прошлого в изображении профессора Хейвуда не какие-то древние, «ископаемые» фигуры, имеющие разве что архивный, исторический интерес для читателя, а наши, по сути, современники. Ибо они, как нам показывает автор, сумели поставить, сумели сформулировать многие из тех проблем, над которыми размышляет современная политическая теория, и предложили некоторые важные «ключи» для их решения. Платон, Аристотель, Гоббс, Локк — не «прошлое» политической теории, а самое что ни на есть «настоящее», а кое в чем и ее «будущее». Один очень проницательный философ как-то сказал: «Вся западная философия — не более, чем комментарий к Платону». Этот, как, наверное, и всякий другой афоризм, содержит в себе некоторое преувеличение. Но в «преувеличении» этого афоризма — весьма высокая доля истины. И это мастерски выявляет в своей книге Эндрю Хейвуд.
Вместе с тем, представляемая в учебнике история проблем политической мысли не имеет самодовлеющего характера. История тут не самоцель. История здесь служит введением в современность. В центре внимания автора — современное состояние политической теории. Самое современное. Перед нами, в полном смысле этого слова, — учебник XXI века. Более того, все его содержание устремлено в будущее. Показательно, что многие рассматриваемые в книге понятия начинаются словечком «пост»: пост модернизм, пост материализм, постфордизм, постсоциализм, постиндустриализм и т. п. Это «словечко» — символ рождения новой эпохи — эпохи после («пост») XX столетия. Это «словечко» — свидетельство того, что старая реальность уходит, а новая еще не сложилась, не определилась до конца и потому еще не обрела собственных, адекватных новому содержанию наименований. Профессор Хейвуд как бы приоткрывает дверь в будущее, в мир новых социально-политических реальностей, в мир, который он именует post-world («постмир»). Из мира устоявшихся явлений и отстоявшихся знаний он стремится ввести чита-
XIII
теля в мир, еще мало изученный, в мир еще не до конца осмысленных и не до конца еще решенных проблем. Он, таким образом, выводит читателя на передний край научного знания, за которым — пространство неоткрытого и неизведанного. Он тем самым готовит читателя к дальнейшему, самостоятельному поиску. Готовит к творчеству.
С этим связана еще одна важная особенность предлагаемого учебника. Автор постоянно подчеркивает: политика — это не только и не просто Наука, это еще и Искусство, это — Творчество. Потому и написанный им учебник — лишь предпосылка такой творческой деятельности. Учебник дает лишь общее описание закономерностей, лишь общую характеристику связей и взаимоотношений социальных и политических институтов. Он знакомит с «арифметикой» (ну, если хотите, с «высшей математикой») политики. Применение же этих «математических» формул к конкретным условиям деятельности людей — процесс Творчества. Его не загонишь в схемы, таблицы, матрицы и шаблоны. И Творчеству тоже нужно (и можно) обучаться, но уже не по учебникам. Учебник необходим, но совершенно недостаточен. Об этом тоже предупреждает профессор Хейвуд. «Учиться» Творчеству — значит изучать опыт деятельности конкретных политиков, субъектов политического действия, внимательно анализируя соотношение их целей, намерений и получаемых результатов, извлекая из этого для себя соответствующие уроки. Учиться Творчеству — значит обращаться к произведениям классиков политической мысли, в которых наиболее адекватно отражен и осмыслен прошедший опыт социальной деятельности людей. Профессор Хейвуд дает отсылки к такого рода произведениям. Это по сути предлагаемая им программа дальнейшего проникновения в сущность политической теории, в глубины политического Искусства.
И еще одна грань педагогического мастерства Эндрю Хейвуда. Как мы уже отмечали, политика, политическая теория — это сферы столкновения интересов и борьбы идей. Великое искусство — адекватно отразить содержание этой борьбы, не превращаясь в адвоката какой-либо из борющихся сторон, сохранить научную объективность изложения. В общем — дать полную и объективную картину, а не идеологически заостренный трактат. Написать так, чтобы ваши личные симпатии и антипатии не довлели над вашим описанием явлений, событий и теорий.
Подобным искусством в полной мере владеет профессор Хейвуд. Это особенно заметно в его описании такой сложной для объективного анализа темы, как «Современные политические идеологии». Тут трудно уйти от своих симпатий и антипатий. Эндрю Хейвуду это удается. Образец этого — его анализ взаимоотношения идеологий «либерализма» и «социализма», под знаком острой конкуренции которых прошел весь XX век. Профессор Хейвуд с громадным уважением излагает фундаментальные положения социалистической теории Маркса и с не меньшим уважением — базисные идеи либерализма Джона Локка и их последователей. Он отмечает сильные и слабые стороны соперничающих идеологий. Он прослеживает, как в ходе исторического и теоретического развития эти идеологии преодолевали свои ограниченности, отказывались от крайностей, как постепенно отпадали от них наиболее примитивные и, в силу этого, наиболее воинственные течения и концепции. Он констатирует, что наиболее глубокие, наиболее серьезные формы этих идеологий идут навстречу друг другу, заимствуя друг у друга полезные идеи и гуманистические ценности. И в итоге все больше выкристаллизовывается идея «третьего пути» — пути, на котором происходит конвергенция ценностей либерального и социалистического толка. И современные либеральные концепции (Джона Роулса, Исайи Берлина), включающие в ядро своих теорий категорию «равенство» (центральную для социалистических теорий), превращаются в особый тип либерализма — социальный либерализм. И этот современный тип либерализма сближается с рядом форм современного социализма, включающих в ткань своей идеологии центральную категорию либеральных концепций — «свободу». В высшей степени плодотворная констатация!
Разумеется, предлагаемый вам учебник — не единственный в нашей учебно-педагогической литературе. Сегодня в любом книжном магазине вы найдете изрядное количество самых разнообразных учебников по политологии, созданных нашими, отечественными авторами. Среди них (назову лучшие, на мой взгляд) — «Введение в политологию» В.П. Пугачева и А.И. Соловьева (М., 2001), «Политология. Справочник студента» В.П. Пугачева (М., 2001) и, в особенности, — «Политология», учебник, подготовленный в 2004 г. авторским коллективом факультета Политологии МГИМО (У) под руководством проф. А.Ю. Мельвиля. Как бы ни был хорош учебник проф. Хейвуда, он не в состоянии заменить отечественных учебных пособий. В нем нет того, что есть в наших учебниках и что является важнейшей частью политологического образования россиянина, — в нем нет политического видения истории России, современных проблем российского социально-политического развития, нет той социальной и духовной атмосферы, в которой все мы, россияне, живем. Книга Эндрю Хейвуда — хорошее дополнение к нашей учебной литературе. Она доносит да нас дыхание и биение пульса современной западной политической мысли. И все же, знакомясь с талантливым произведением западного автора, мы будем держать в уме полный глубокого смысла девиз, сформулированный еще А.С. Пушкиным: «Войти в Европу и остаться Россией!»
 2015-07-04
2015-07-04 659
659








