Миль выражает недоумение по поводу того, что до сих пор обсуждается вопрос о том, какой прогноз лучше — клинический или статистический. Результаты многих исследо-ваний убедительно показывают преимущества статистического прогноза. Однако победитель в этом противостоянии до сих пор не может завоевать сколько-нибудь крепких позиций в психологии. Почему же существует сопротивление статистическому прогнозу? Прежде всего Миль не выказывает никакого намерения обращаться к «argumentum ad hominem»*. Он пытается понять, почему же так долго не осознаются преимущества статистического метода. Миль приводит перечень социально-психологических факторов, которые, по его мнению, обусловливают не под-
* argumentum ad hominem —аргумент к человеку, (лат.) Выражение относится к доводам, воздействующим па чувства собеседника, в противоположность объективным аргументам (прим.перев.).


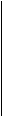 дающееся рациональному объяснению сопротивление использованию статистического прогноза. Миль ничего не говорит об источниках этой информации: получены ли эти результаты в процессе статистических исследований, или же это итог клинических наблюдений. Отсутствие цифр и формул позволяет предположить, что это аргументы клинического типа.
дающееся рациональному объяснению сопротивление использованию статистического прогноза. Миль ничего не говорит об источниках этой информации: получены ли эти результаты в процессе статистических исследований, или же это итог клинических наблюдений. Отсутствие цифр и формул позволяет предположить, что это аргументы клинического типа.
|
|
|
1) Недостаточное знание статистических методов и сути самого противостояния. Миль указывает на тот факт, что многие молодые доктора философии ничего не знают о формуле предсказания Спирмена-Брауна и о теореме Байеса.
2) В какой-то степени здесь может сказываться опасение остаться без работы для многих сторонников клинической ориентации, поскольку применение математических формул может оказаться более эффективным.
3) Ориентация на статистические методы не соответствует профессиональным стереотипам — представлению о клиническом психологе как о специалисте, обладающем коммуникативными навыками ведения клинической беседы и способном решать проблемы.
4) Клинические психологи обычно придерживаются одной теории, даже если не существует эмпирических доказательств справедливости этой теории или если эта теория не является плодотворной основой для выработки гипотез.
5) Использование формул для описания той или иной ситуации часто воспринимается как дегуманизация.
6) Использование формул иногда выглядит неэтичным. Но неэтичным можно также считать и отказ от использования формул в тех ситуациях, когда статистический прогноз был бы гораздо эффективнее.
7) Не слишком легко воспринимается то, что компьютер способен решать проблемы и отвечать на вопросы лучше, чем человеческий разум. Миль защищает ту точку зрения, согласно которой только при решении ограниченного круга проблем компьютер действует успешнее человеческого разума.
|
|
|
Клейнмюнц (1990, стр.302) также пытался ответить на вопрос: «Почему мы до сих пор используем свою голову вместо того, чтобы применять формулы?» Его ответ не столь радикален, как ответ Миля. Он приводит примеры исследо-
вателей, которые предпочитают клинический диагноз, даже если известен прогноз, основанный на формулах. Один из таких примеров — использование программы для определения причин острых болей в желудке. Проведенные в 1975 году испытания показали, что при использовании этой программы можно успешно диагностировать и выявлять причины острых болей в желудке в 91 % случаев. Это лучший результат по сравнению с прогнозами опытных специалистов. Но даже с учетом этих обстоятельств разработчики программы не рекомендовали ее для использования во всех без исключения случаях. Они сочли более разумным, что в ситуациях острой угрожающей боли врачи будут полагаться на собственный опыт и интуицию. Эксперты решили, что в критических ситуациях действия врачей будут более эффективными по сравнению с использованием программы. Возможно, в данном случае учитывалось то, что у специалистов существует дополнительная информация (типа упомянутого Олпортом «знания о разбитой ноге»), но использование программы во многих случаях давало лучшие результаты.по сравнению с мнением специалистов. Считается, что используемые в повседневной практике программы прогнозирования успешны в девяноста пяти процентах случаев. Но может случиться так, что для специалистов будут интересны как раз оставшиеся пять процентов случаев. Каким образом специалисты могут корректно поставить диагнозы в этих случаях?
Клейнмюнц указал и на другую причину того, что более предпочтительным оказывается использование «головы». Ситуация клиента, с которой работает психолог-клиницист, обычно плохо структурирована. Психолог имеет дело с «настоящей жизнью», с богатой человеческой натурой. По мнению большинства людей, в жизни происходит много неожиданных событий, встречаются ситуации, которые не имеют однозначной интерпретации. Клинический психолог учитывает это в своей работе. Использование же формул возможно там, где существует хорошо структурированная проблема, при этом любые случайности интерпретируются как ошибки или же объясняются недостатком знаний. Психолог, использующий формулы, «отстраняется» от анализа реальных жизненных проблем,
7!
поэтому при использовании формул возможен некоторый редукционизм. В целом же, по мнению Клейнмюнца, этот аргумент не валиден. Он использует пример шахматного компьютера, который приспособлен для решения сложных задач.
Прагматическим аргументом в пользу того, чтобы не использовать формулы, является высокая стоимость исследований. Для того, чтобы иметь в своем распоряжении нужные формулы, следует провести большое число предварительных исследований. Всегда существует определенная степень риска получить неадекватный результат, даже при использовании модели, считающейся валидной. Модели всегда несколько упрощают реальность, они должны быть адаптированы к изменяющейся реальности. Модели всегда «зависимы от контекста», то есх'ь они разрабатывались в определенное время, для определенной популяции и для определенных условий. Однако не стоит преувеличивать эти опасности. В противном случае можно прийти к «reductio ad absurdum»*, если рассматривать каждый контекст как новый (то есть как ситуацию, к которой не применимы ранее установленные закономерности). Да-вес и др. (1993) призывает исследователей использовать информацию о контексте при разработке моделей прогноза.
|
|
|
Айнхорн (1986), занимающийся вопросами теории решений, анализирует проблему другим способом. Оба — и статистик и клиницист — должны принять решение. Однако работа над проблемой происходит по-разному. Клинический психолог, рассматривая симптомы как проявление глубинных процессов, выступает с позиций детерминизма. Он пытается воссоздать картину таким образом, чтобы все происходящее в настоящий момент напоминало прошлое или же было почти тождественно ему. Он стремится получить совершенный прогноз. Этот способ рассуждения напоминает постановку медицинского диагноза, где единицей анализа является болезнь, причину которой и стремится установить врач. На основе этого может быть определена эффективная стратегия лечения. В противоположность этому статистик допускает существование ошибки и разрабатывает модель таким образом, чтобы учесть влияние
* «reductio ad absurdum» (лат.) —доведение до абсурда (прим. перев.).
неизбежных случайных ошибок. Следовательно, статистик имплицитно исходит из того, что и мир, и человеческая природа содержит в себе элемент неопределенности, и что возможно лишь частичное познание. Каждая формула — это всего лишь попытка приближения к описанию комплексного феномена.
Айнхорн приводит пример, показывающий, что допущение существования ошибки может вести к меньшей ошибке. Из исследований, показывающих, как люди осваивают представление о вероятности, известно, что, сталкиваясь со случайными событиями, они стараются раскрыть систему (понять принцип) и иногда действуют так, как будто эта система действительно существует. Например, если нужно определить, какой шар будет взят из ящика — белый или красный (при условии, что известен их пропорциональный состав — в ящике 40% белых и 60% красных шаров),— можно ориентироваться на то, что красных шаров больше, и при каждой пробе говорить, что будет взят красный шар. Ответ будет правильным в 60% случаев. Но возможна и другая стратегия ответов. Если известно, что соотношение между количеством шаров разных цветов 6:4, то можно попытаться ответить в 60% случаев «красный» и в 40% — «белый». Поскольку событие является случайным, вероятность успеха будет 0,60 х 0,60 + 0,40 х 0,40 = 52%. Таким образом, предполагать наличие несуществующей системы хуже, чем не предполагать вообще.
|
|
|
В психологии сосуществуют оба подхода — и клинический, и статистический. Важно знать, в какой ситуации какое решение следует использовать. Если событие не является случайным, то более предпочтительным будет анализ системы. В иных случаях проведение анализа может напоминать стереотипное следование предрассудкам. Сторонники клинического подхода склонны предполагать наличие «системы» в жизни своих клиентов. Статистики допускают существование границ ошибки и пытаются оценить размеры этой ошибки. В этой ситуации важно знать, насколько значимыми являются ошибочные допущения в той или иной области. С одной стороны, сказать, что феномен случаен, в то время, когда он таковым не является,— это значит потерять возможность для сбора информации. С другой стороны, говорить, что феномен не является отра-
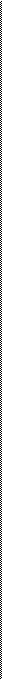 жением некоей системы, что на самом деле не так, значит создавать иллюзию осведомленности и контроля.
жением некоей системы, что на самом деле не так, значит создавать иллюзию осведомленности и контроля.
Айнхорн приходит к выводу, что эти споры никогда не прекратятся. Будут сохраняться два различных подхода к решению.проблем в психологии, и это является стимулирующим фактором для развития знаний и критических установок в отношении возможностей познания. Вероятно и то, что клинические психологи и пользователи-непрофессионалы переоценивают число правил для исследования реальных феноменов.
Результаты исследований, свидетельствующие о том, что статистический прогноз более адекватен по сравнению с клиническим, не были встречены с энтузиазмом и не получили немедленного одобрения. Давес и его сторонники столкнулись с критикой используемых ими методик. Иногда критические замечания касались того, что используемая формула выведена не для данной конкретной популяции или же, наоборот, что формула не отражает популяцию в целом. Всегда можно отыскать выборку, для исследования которой данная формула абсолютно не применима. Замечание представляется совершенно справедливым, но следует отметить, что при этом не предлагается никаких альтернативных вариантов. В данном споре большинство аргументов относятся к тому, что могло бы произойти, а не к тому, что есть на самом деле. Давес и его коллеги знают, что исследования, построенные на использовании формул, подвергаются критике. Полученные конкретные результаты можно интерпретировать разными способами, но на самом деле редко встречаются альтернативные интерпретации, которые бы подтверждались эмпирическими данными.
Как это ранее отмечал и Миль, Давес и его коллеги объясняют существующее в психологии сопротивление исполь-зованию формул при составлении прогнозов и рекомендаций когнитивными и эмоциональными особенностями людей. Отвергаются не формулы сами по себе, а то, что эти формулы нам сообщают. Другое возражение связано с тем, что мы многого не знаем о явлениях, которые в жизни считаются важными. Человек может предвзято относиться к тому, что коэффициент корреляции прогноза с реальными жизненными событиями (средний возраст вступления в брак, школьные и академические успехи, по-
вторные преступления) в самых лучших линейных моделях находится в пределах от 0,3 до 0,4. Корреляции значимы, но они не слишком высоки и содержат большую долю неопределенности. Подобного рода непредсказуемость может разрушить нашу веру в возможность понимания событий нашей жизни в сколько-нибудь значительной степени. Наконец отмечается и негибкость статистических моделей. Модели не меняются автоматически вслед за изменениями людей и обстоятельств. Но нельзя винить в этом модель как таковую. Необходимо пересматривать модели с учетом обратной связи. Для адаптации моделей к новым обстоятельствам необходимо проведение эмпирических исследований.
Давес и его коллеги уже отмечали, что люди с трудом принимают результаты прогностических исследований. По мнению многих, более достоверная и адекватная информация о человеке скорее может быть получена при индивидуальной работе с ним, нежели при оценивании его с помощью самых лучших тестов. Бар-Хиллел и Вагенаар (1993) с удивлением отмечают, насколько плохо люди понимают значение слов «шанс» и возможность. В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся со случайными событиями, такими, например, как пол ребенка при рождении, выигрыш на фондовой бирже. Последнее может быть описано как «модель хаотичного движения». Такую модель можно представить себе, вообразив путь пьяного человека по скверу. Как считают Нисбетт и Росс (1980), приобретение более глубоких знаний по статистике не слишком изменит ситуацию. Может возникнуть вопрос: «Можно ли понять, когда событие не является случайным?» Результаты некоторых игр и конфликтов непредсказуемы (можно не относиться к этому серьезно, так как результат игр станет •скоро известен). С другой стороны, представляется логичным четко знать, что некоторые феномены непредсказуемы. Душа бывает подобна ветру, который дует туда, куда он захочет, и пытаться его контролировать бессмысленно. Однако исследователи не отказались от поисков возможных способов прогноза и поисков системы в феноменах. Открытие такой системы означает рост знания и иногда (не всегда, но в большинстве случаев) возможность контроля.
Бар-Хиллери Вагенаар (1993) считают, что представление людей о «шансе» отличается от того, как его определяют
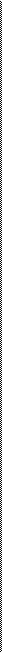 в статистике. Имеется в виду, что серия случайных событий не воспринимается людьми как случайность. Эти ошибочные представления становятся чем-то вроде «самодостаточного пророчества». Если ошибочное мнение о случайном феномене существует довольно долго, то оно получит подтверждение. Например, некорректное утверждение «слишком большая любовь убивает» также получит подтверждение, поскольку ни один человек не бессмертен.
в статистике. Имеется в виду, что серия случайных событий не воспринимается людьми как случайность. Эти ошибочные представления становятся чем-то вроде «самодостаточного пророчества». Если ошибочное мнение о случайном феномене существует довольно долго, то оно получит подтверждение. Например, некорректное утверждение «слишком большая любовь убивает» также получит подтверждение, поскольку ни один человек не бессмертен.
Другой пример. Главный менеджер меняет одного менеджера за другим. Последний из них должен действовать на абсолютно непредсказуемом рынке. После определенного периода времени дела начинают идти хорошо. Главный менеджер доволен собой: он оказался прав, не побоявшись отвергнуть всех предыдущих кандидатов, и его не подвела интуиция в выборе подходящего человека на вакантную должность. Конечно, приводить аргументы задним числом — post hoc* — нетрудно, но это вряд ли оправдано.
Еще один пример. Официант полагает, что молодая, хорошо одетая пара заплатит большие чаевые. Он ведет себя очень корректно, демонстрирует свое дружелюбие, и в итоге получает весьма приличные чаевые. Post hoc он хвалит себя за свою «деловую» проницательность и знание психологии клиентов. Если же его ожидания окажутся ошибочными, то, вполне вероятно, он назовет своих посетителей «снобами». Однако, его представление о собственной психологической проницательности не будет поколеблено. Хорошо известно, что все, что свидетельствует в пользу наших гипотез, оказывается для нас более значимым, чем то, что противоречит им.
Как показано в данном разделе, многим клиентам и психологам трудно отказаться от предпочтения клинического типа оценивания. В некоторых случаях, когда нет соответствующей статистической модели, действительно существует необходимость в вынесении клинического суждения. Однако во многих случаях статистическая информация о вероятности и случайных феноменах не воспринимается корректно из-за влияния когнитивных и эмоциональных факторов. Ради сохранения привычных, но статистически ложных представлений люди даже готовы видеть их подтверждение в любых эмпирических данных.
* post hoc (лат.) — после этого (прим.перев.) ■
2.3.7. Закончены ли споры?
Преимущества и недостатки клинического и статистического типов прогнозов интенсивно обсуждались в пятидесятые и шестидесятые годы. Поэтому участники дискуссии сочли возможным рассматривать 1986 год как своеобразную юбилейную дату. За исключением Сарбина, главные участники этой дискуссии не изменили своих позиций. В результате обсуждений появилась новая область исследований — моделирование клинического заключения (judgment), целью которой является описание и объяснение этой важной деятельности клинического психолога, а также пользователей-непрофессионалов.
В спорах о преимуществах того или иного типов прогноза победа оказалась на стороне статистического прогноза. Если люди предпочитают клиническое оценивание использованию формул, что предполагает нарушение правил в отношении учета ошибок, вероятности событий и случайностей, то этот способ рассуждений может быть назван «нерациональным» или «неоптимальным». Казалось бы, вопрос очерчен достаточно полно и как будто бы урегулирован. Исчезла ли эта дискуссия из научной повестки дня? Витгенштейн (1958) считает, что вопросы вообще не могут иметь ответов, а проблемы — решений, они просто исчезают на какое-то время и впоследствии появляются вновь. Случится ли что-либо подобное со спором о разных типах прогнозов?
Психиатр Кирмайер (1994) попытался показать отличие ситуации клинического прогноза от ситуации статистического прогноза. Он проанализировал свои собственные медицинские, психиатрические и психосоматические диагнозы. В клинической ситуации присутствуют двое — клиент с волнующей его проблемой и эксперт. Этот эксперт не может поставить правильный и полный диагноз в каждом случае психологической или психосоматической жалобы. Хотя все руководства по медицине и призывают нас верить в то, что всем пациентам может быть поставлен правильный диагноз, de facto это может оказаться не так, несмотря на все знания, все статистически определенные нормы и формулы решений. Такие руководства содержат описания абстрактных, идеализированных случаев. Однако в реальной жизни существуют конкретные и трудные для работы слу-
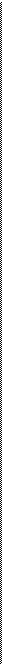 чаи, для которых невозможна постановка точного (полного) диагноза. Иногда может быть и так, что диагноз очевиден, но лечение, адекватное для данного случая, не оказывает должного воздействия на клиента.
чаи, для которых невозможна постановка точного (полного) диагноза. Иногда может быть и так, что диагноз очевиден, но лечение, адекватное для данного случая, не оказывает должного воздействия на клиента.
Более того, существуют вполне определенные ограничения в постановке конкретного диагноза: врач (в медицине) или психолог не могут проверить все и каждую в отдельности возможность. Для этого просто не хватит времени. Кроме этой практической проблемы, существуют вопросы и принципиального характера. Кирмаейр отмечает, что взаимодействие клиента и эксперта носит особый характер. Оно отлично от взаимодействия в обычной ситуации и соотносимо с научным взаимодействием. Клиническая ситуация не тождественна экспериментальным условиям в биологии или психологии. Указанные подходы не являются ни взаимодополняющими, ни взаимоисключающими. По мнению Кирмайера, нужно считаться с тем, что существует область точных знаний и наряду с ней область знания более или менее неопределенного и неточного. Образуемое этими областями пространство используется для постановки диагноза, поскольку оно позволяет эксперту интерпретировать проблему в процессе взаимодействия с клиентом и тем самым находить то, что de facto там содержится. Достаточно «независимый» пациент нередко вносит свой вклад в постановку диагноза. Клиент, кроме того, рассматривает себя как часть проблемы, и Кирмайер замечает по этому поводу (1994, стр. 191): «Уникальный характер клинических встреч ограничивает возможность использования какой-либо эпистемологии, исходящей из любого научного контекста,— будь то контекст экспериментальных наук (таких как биология и психология) или описательных наук (как, например, эпистемология). Здесь необходима особая — клиническая — эпистемология». Его вывод понятен: клиническая интерпретация, клинический прогноз (можно для этого придумать и другие названия) нуждаются в своей собственной эпистемологии. Кирмаейр приводит пример осуществления такого рода «клинической эпистемологии» в случае психосоматического расстройства пациента. Он использует различные источники информации — такие, как наблюдение симптомов, анализ общих и специфических форм поведения клиента до заболевания, психологи-
ческие показатели и психологические предпосылки. Эта информация используется для установления возможной органической патологии, для исключения обмана или хитрости. В описываемом им конкретном случае многие эксперты пришли к выводу, что пациент симулирует. Однако пациент был доставлен в хирургический кабинет и получил большую дозу сильнодействующих лекарств. В итоге на основе всех имеющихся данных было диагностировано соматическое заболевание.
Диагностическая схема, таким образом, предполагает использование как знаний из области экспериментальных и описательных (корреляционных) наук, так и анализ мотивов и возможных интерпретаций. Некоторые психологи и психиатры допускают даже существование бессознательной мотивации. Допущение интерпретаций, мотивов и неполного (незавершенного) диагноза оставляет значительное место для анализа биографических данных клиента, таких характеристик, как социальное происхождение, культурный уровень. Неправильно думать, что мотивы ни с чем не связаны и в этом смысле произвольны. Кирмайер (стр. 195) утверждает, что «... имплицитная или "житейская" психология оказывает значительное влияние на оценивание клиницистом того, являются ли симптомы сознательно мотивированными или же они бессознательны, находятся ли они под произвольным контролем».
Диагностика психологических и психосоматических проблем почти всегда носит неопределенный характер. Экспериментальный контроль и воспроизведение возможны в ограниченном числе случаев, а нормы выборки подходят лишь частично. Клиент и эксперт в процессе взаимодействия должны прийти к достаточно глубокому пониманию психологических и психосоматических проблем. Существует область (вне «сильных» и «строгих» медицинских, психологических и биологических данных), где подобные интерпретации допустимы. Кирмайер указывает на тот факт, что различные типы знаний не должны смешиваться, что факты и их интерпретация — это не одно и то же. В слабых местах психолог-клиницист может легко придать некоторый риторический пафос своей интерпретации, обращаясь к расхожей фразе, что «результаты научных исследований показали, что...».
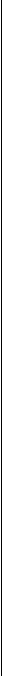 В этом разделе показа ею, что дискуссия о преимуществах клинического и статистического подходов еще не закончена. Кирмайер считает, что существуют ситуации, когда следует использовать именно клиническую интерпретацию. Согласно этому автору, существует особая эпистемология, применимая к получению клинического вывода и взаимодействию между экспертом и клиентом. Так что клинический прогноз образует область «sui generis»*. Это, конечно, оспаривается психиатрами, по мнению которых, необходимость таких интерпретаций и «символизации» исчезнет, когда будет получено больше информации о работе нашего мозга и гормонов.
В этом разделе показа ею, что дискуссия о преимуществах клинического и статистического подходов еще не закончена. Кирмайер считает, что существуют ситуации, когда следует использовать именно клиническую интерпретацию. Согласно этому автору, существует особая эпистемология, применимая к получению клинического вывода и взаимодействию между экспертом и клиентом. Так что клинический прогноз образует область «sui generis»*. Это, конечно, оспаривается психиатрами, по мнению которых, необходимость таких интерпретаций и «символизации» исчезнет, когда будет получено больше информации о работе нашего мозга и гормонов.
ТРИНАДЦАТЬ ИТОГОВЫХ ТЕЗИСОВ
1. В психологии можно видеть три связанных между собой исторических дискуссии. Это обсуждение преимуществ клинического или статистического типов прогнозов; противоположность способов характеристики человека с помощью объективных тестов и при непосредственном взаимодействии с экспертом; разные типы (способы) описания — идеографический и номотетический.
2. Начало реальной дискуссии положила работа Миля (1954). И, хотя споры еще не завершены, их содержание несколько изменилось, а различия в подходах обозначились более четко.
3. Различия между описаниями и объяснениями на основе результатов тестирования в противоположность непосредственному наблюдению и взаимодействию с человеком отсылают нас к вопросам: что является отправной теоретической базой, что есть редукционизм, а что считается валидным методом и процедурой исследования?
4. Резкое противопоставление различий номотетическо-го и идеографического способов описания и объяснения неправомерно и приводит к путанице, поскольку проведение номотетического исследования возможно и в индивидуальном варианте. Объектом идеографического исследования является конкретный индивид. Исследования этого типа не нацелены на выявление общих закономерностей. Современные эпистемологи считают резкое противопоставление различий идеографического и номотетического описаний
* sui generis (лат.) — особого рода, своеобразный (прим. переп.).
несостоятельным. Нельзя сказать, что индивид не подчиняется никаким законам вообще, но в то же время нет такого закона, который был бы приложим ко всем потенциально возможным ситуациям.
5. Противопоставление номотетического и идеографического подходов оказало меньшее влияние, чем противопоставление клинического и статистического типов прогноза.
6. Изначально различие между клиническим и статистическим прогнозами состояло в разнице способов интеграции данных. Позже обозначились различия в типах используемой информации, то есть сторонники прогноза статистического типа использовали данные психометрических тестов, в то время как клиницисты полагались на собственные впечатления и данные интервьюирования.
7. Сарбин обозначил различие между статистическим и клиническим способами интеграции информации. В практическом отношении существует очевидное различие между двумя прогнозами, что убедительно показал Миль.
8. Различие между клиническим и статистическим подходами оценивается по-разному: как весьма незначительная проблема, тривиальная проблема или даже несуществующая проблема. На наш взгляд, это серьезный вопрос.
9. В данной полемике победа — на стороне статистического подхода, клинический прогноз считается потерпевшим поражение. Статистический прогноз содержит меньше ошибочных утвердительных предсказаний и меньше ошибочных отрицательных предсказаний. Но в особых условиях клинический прогноз может оказаться более адекватным. Это не означает, что всегда следует опираться на статистический прогноз. Общество, вероятно, никогда не согласится с тем, чтобы, например, решение о возможном освобождении преступника принималось согласно какой-либо формуле.
10. Позитивным результатом полемики между сторонниками статистического типа прогноза и сторонниками клинического прогноза явилось возникновение интереса к тому, каков процесс получения клинического вывода.
11. Сопротивление принятию статистического подхода объясняется тем, что он недостаточно хорошо известен, а также тем, что в какой-то мере задевает Я-концепцию и
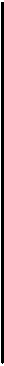 идентичность клинициста. Определенное влияние может также оказывать преданность клиницистов любимым теориям.
идентичность клинициста. Определенное влияние может также оказывать преданность клиницистов любимым теориям.
12. Сопротивление принятию результатов статистической модели внутри и вне круга психологов иногда объясняется распространенностью неправильного понимания случайности и склонностью к «самоосуществляющимся пророчествам».
13. Содержание этих споров можно представить как последовательность следующих шагов.
• Обнаружение противоречия.
• Противоречие получает название, обозначаются позиции.
• Обсуждается весомость аргументов.
• Иногда возможны попытки «примирения».
• Попытки одержать победу. Аргументы сторон различны, используются даже аргументы типа «argument ad homines»*.
• Новые участники дискуссии выбирают ту или другую сторону.
• То обстоятельство, что аргументы не убеждают противоположную сторону, объясняют психологическими особенностями оппонентов.
Аргументы имеют свои периоды подъема и спада. Споры эти, очевидно,бесконечны.
argumenlum ad hominem — аргумент к человеку (лат.). Выражение относится к доводам, воздействующим на чувства собеседника в противоположность объективным аргументам (прим. перев.).
Глава 3
Представление о надежности и валидности в обыденном сознании и в психодиагностике
В первой главе показано, что возможно рассмотрение трех уровней психодиагностики:
1) Уровень житейских представлений: психологические понятия имеют некоторое содержательное наполнение и в повседневной жизни, т.е. на уровне обыденного сознания;
2) Концептуальный и таксономический уровень: этот уровень представлен психологическими теориями о поведении, мышлении, эмоциях;
3) Математический уровень: этот уровень представлен различными моделями ответов на задания тестов и методиками анализа данных. Существует множество различных психологический теорий и концепций. К сожалению, не всегда можно подобрать для них адекватные статистические методы обработки данных, а с другой стороны, уровень математического моделирования не часто соответствует определенным концепциям и конструктам. Некоторые понятия не имеют вполне четкого значения, что затрудняет разработку для них математических моделей.
Последовательность трех уровней представляет собой описание психодиагностики «снизу вверх». В идеальном варианте эти три уровня согласуются между собой, причем сведения одного уровня к другому не происходит. Например, математический уровень психометрической модели соответствует теоретически ожидаемой модели поведения (или когнитивной характеристики). Информация, полученная в результате эмпирических исследований, и математическое моделирование на основе теорий и концепций обогащают житейские представления о характеристиках поведения, познания и т.д. В попытке достигнуть этого мы без особой необходимости не подчеркиваем различия между теоретическими конструктами и математическими моделями, а описания конструктов на уровне здравого смысла не всегда отбрасываем как наивные, ненаучные, ошибоч-
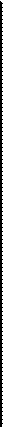 ные или необоснованные. Житейские представления о поведении человека достаточно хаотичны, но они-то и поставляют материал для научной психологии. В качестве примера понятия, в котором можно выделить три уровня, можно привести концепцию атома. Представления об атоме упоминались уже Демокритом, понятие атома существовало на уровне житейских представлений, а затем получило теоретическое обоснование и соответствующую математическую модель.
ные или необоснованные. Житейские представления о поведении человека достаточно хаотичны, но они-то и поставляют материал для научной психологии. В качестве примера понятия, в котором можно выделить три уровня, можно привести концепцию атома. Представления об атоме упоминались уже Демокритом, понятие атома существовало на уровне житейских представлений, а затем получило теоретическое обоснование и соответствующую математическую модель.
Взаимодействие между уровнями никогда не бывает абсолютно успешным, поскольку каждый уровень имеет свою собственную логику развития. Развитие математического моделирования происходит слишком быстро по сравнению с изменениями житейских представлений, а иногда даже по сравнению с динамикой деятельности практического психодиагноста. Это и обусловливает различия в деятельности практических психологов и разработчиков математических методов в психологии. Кроме того, уровень знаний пользователей-непрофессионалов и практических психодиагностов также различен, поскольку они ориентируются на разные вещи при тестировании и прогнозировании. На наш взгляд, взаимодействие мех<ду уровнями должно рассматриваться как полезное и разумное. Ни один из уровней не может существовать сам по себе, ни один из них не сводим к другому, в то время как их сопоставление представляется продуктивным для понимания поведения человека.
Помимо выделения трехуровневой структуры, возможно также рассмотрение психодиагностики как системы, состоящей из четырех компонентов. Компоненты и уровни нередко взаимодействуют. Концепции надежности и валид-ности, являющиеся главным предметом данной главы, могут быть рассмотрены с точки зрения трех уровней и четырех компонентов. В обыденном сознании надежность и валидность имеют много различных значений, также как и в некоторых научных дисциплинах (например, в эпистемологии). В психологии требования надежности и валидности предъявляются как к теоретическим конструктам, так и к тестам и процедурам; точно так же его можно отнести и к проведению диагностического обследования. Остановимся подробнее на характеристике житейских представлений о надежности и валидности, на описании соответствующих психологических концепций.
Понятие надежности широко используется в повседневной жизни, но оно существует также и как психологическое понятие, имеет оно и свое математическое определение. В классической и в современной теории тестов акцент сделан на математическом (статистическом) определении. Это определение представлено в главе 1. В данной же главе мы приведем описание житейских представлений о надежности и валидности, рассмотрим некоторые философские определения, имеющие определенное влияние в психологии, и изложим содержание психологических концепций валидности и надежности. Понятие надежности тесно связано с понятием надежности теста или опросника (а часто им и ограничивается).
Понятие валидности присутствует в обыденном сознании не так широко, как понятие надежности. Тем не менее существует некоторое представление о валидности утверждений. В психологии понятие валидности имеет различные значения, на которые оказывают влияние как представления здравого смысла, так и данные эпистемологии, как психологические теории и конструкты, так и развитие математических моделей и различных техник анализа данных. Значение понятия валидности меняется в связи с развитием представлений на всех трех уровнях и в эпистемологии. Валидность — понятие многостороннее.
3.1. Надежность
Слово «надежность» часто используется в повседневной речи. Например, можно говорить о человеке как о надежном или ненадежном. В психодиагностике понятие «надежность» относится в большинстве случаев к характеристике тестов, процедур и способов оценивания. Более того, существует теория тестов, которая определяет надежность теста в соответствии с определенными правилами и основывается на представлении о характеристиках тестовых показателей. Существуют эмпирические процедуры оценки надежности тестов (это рассматривалось в главе 1). Уровни не являются абсолютно независимыми.
3.1.1. Житейские представления о надежности
В повседневной жизни мы характеризуем человека как надежного или ненадежного. В основе этого лежит наше
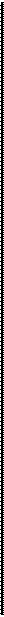
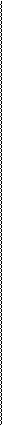 представление о том, можем или не можем мы доверять этому человеку, честен он или нет. Термин «надежность» используется также и при оценке качества информации. Это понятие может также использоваться и при характеристике презервативов или при оценке долговечности снежного покрова в начале зимы. Надежность представляет интерес для психологов как характеристика человека. Еще в 1928 г. Хартшорн и Мэй попытались оценить индивидуальные различия людей по характеристике «надежность». По обшему мнению, успех не сопутствовал исследователям при измерении этой характеристики, т.к. она оказалась слишком зависимой от ситуации. Однако в одной из интерпретаций данного исследования эта характеристика была названа стабильной, а нестабильность результатов была приписана низкому методическому уровню сбора и обработки данных (Rushton, Brainerd, Pressley, 1983).
представление о том, можем или не можем мы доверять этому человеку, честен он или нет. Термин «надежность» используется также и при оценке качества информации. Это понятие может также использоваться и при характеристике презервативов или при оценке долговечности снежного покрова в начале зимы. Надежность представляет интерес для психологов как характеристика человека. Еще в 1928 г. Хартшорн и Мэй попытались оценить индивидуальные различия людей по характеристике «надежность». По обшему мнению, успех не сопутствовал исследователям при измерении этой характеристики, т.к. она оказалась слишком зависимой от ситуации. Однако в одной из интерпретаций данного исследования эта характеристика была названа стабильной, а нестабильность результатов была приписана низкому методическому уровню сбора и обработки данных (Rushton, Brainerd, Pressley, 1983).
Многие люди рассматривают надежность как важную характеристику. В одном исследовании, проведенном голландскими психологами, 600 родителям предлагалось перечислить характеристики, которые они считают важными для своих детей. Как показало это исследование, наиболее часто называются следующие качества: честность, справедливость, независимость, открытость и ответственность (Van Voorst tot Voorst-Alting van Geusau, 1984).
Долгое время предметом исследований психологов были прилагательные, описывающие личностные характеристики. С помощью эксплоративного факторного анализа, обычно по методу варимакс-вращения, следуя традиции простой структуры по Терстоуну, выделялись и интерпретировались отдельные факторы. Существует разделяемое многими исследователями положение о том, что прилагательные, описывающие личностные характеристики, могут быть представлены пятифакторной моделью (см. также гл. 5). Эта модель была создана в результате анализа всех прилагательных, с помощью которых можно описать человека. Третий фактор из этой модели — «добросовестность» (ответственность) — в какой-то степени напоминает то, что называется надежностью. Приведем список прилагательных, представляющих полярные, т.е. наиболее позитивные и, соответственно, самые негативные, характеристики по этому фактору, организованный, спо-
собный к планированию, эффективный, ответственный, надежный, добросовестный, с одной стороны, и беззаботный, хаотический, беспорядочный, легкомысленный, безответственный, неряшливый, непредсказуемый, забывчивый, с другой.
В США в прикладной психологии управления используются так называемые «тесты честности» («integrity tests»). И, хотя характеристики этих тестов не бесспорны, они достаточно хорошо предсказывают соответствующий критерий. Этот критерий содержит преимущественно описание таких личностных характеристик и типов поведения, как безответственность, бездеятельность, проблемы с дисциплиной, возможные нарушения правил во время работы, медлительность и частое отсутствие на рабочем месте. В тесте существуют задания, направленные на выявление таких позитивных характеристик, как добросовестность, управляемость, надежность, и задания, выявляющие такие негативные типы поведения, как стремление к сенсациям, ссоры с авторитетными лицами, враждебность (Sackett, 1994). Американские работодатели выбрали из 86 предложенных характеристик, описывающих подчиненных, те, которые они считают наиболее важными: некоррумпированное™, целостность натуры, добросовестность. Когнитивные способности занимают в этом списке шестое место (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993).
Подведем некоторые итоги. В этом разделе речь шла о том, что понятие «надежность» часто используется в повседневном общении для описания качеств того или иного человека. Надежность является очень важной характеристикой человека, как по мнению родителей, так и по мнению работодателей. Характеризуя человека как надежного, мы имеем в виду, что он не действует непредсказуемым образом от случая к случаю. Этот же смысл вкладывается в понятие надежности" в психологии.
3.1.2. Понятие надежности в психодиагностике
Надежность является важным понятием научной психологии. Концептуальная схема и практические процедуры оценки надежности используются и в других научных дисциплинах. В прекрасных обзорах методов оценивания в педагогике под редакцией Американского Совета по обра-

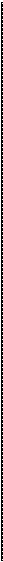 зованию всегда отводится место для главы о концептуальных и методических аспектах надежности. Стенли (1971) считает, что о надежности проще говорить на языке формул. Но, отмечает он, внимание должно также уделяться и «логическим и эмпирическим аспектам» (стр. 359). «Логический аспект» в терминологии Стенли близок тому, что в данной работе мы называем концептуальным аспектом.
зованию всегда отводится место для главы о концептуальных и методических аспектах надежности. Стенли (1971) считает, что о надежности проще говорить на языке формул. Но, отмечает он, внимание должно также уделяться и «логическим и эмпирическим аспектам» (стр. 359). «Логический аспект» в терминологии Стенли близок тому, что в данной работе мы называем концептуальным аспектом.
Исходное предположение концепции надежности состоит в том, что при оценивании различных феноменов (биологических, физиологических, психологических) неизбежны ошибки измерения. При повторном измерении никогда не будут получены те же баллы или та же сумма баллов, что и в первом измерении. Под надежностью в психодиагностике понимается повторяемость результатов измерения (Runkel & McGrath, 1972; Nunnally & Bernstein, 1994) или согласованность результатов измерения (Feldt & Brennan, 1989, Stanley, 1971).Таким образом, понятие «надежность» показывает степень свободы результатов тестирования от ошибок измерения, а также степень согласованности и повторяемости полученных результатов. Об ошибках в повседневной жизни говорят в тех случаях, когда человек мог избежать неудачи или исправить сделанное. «Errare humanum est»*, в то же время мы говорим: «Я больше никогда не допущу подобной ошибки».
Понятие «случайной ошибки» в математической модели также является частью этой модели. В этом смысле ошибки могут считаться неизбежными. Совсем не просто описать случайные ошибки. Можно попытаться рассматривать их как характеристику самого процесса оценивания или, что также возможно, как нечто свойственное самому исследуемому феномену. Речь не идет о постоянной или систематической ошибках, которые можно контролировать в процессе психологического оценивания и которых можно избежать путем стандартизации. Понятие случайной ошибки плохо улавливается на интуитивном уровне, а термин «надежный» иногда соотносится с понятием валидности. Как было показано в гл. 2, случайность и случайные события не слишком легки для понимания. Люди усматривают закономерности в случайном наборе чисел и сами они не * Errare humanum est (лат.) — Человеку евойственно ошибаться (прим. перев.)
способны создать такой набор. Всегда соблазнительно видеть структуру или какой-либо план в случайных феноменах. В этом смысле случайные ошибки противоречат интуитивным представлениям.
Кроме того, в обыденном языке понятия надежности и валидности иногда отождествляются. Например, прогноз погоды называется надежным в том случае, если он соответствует реальным событиям, а не тогда, когда различные радиовещательные компании дают одинаковую информацию. Лекарство считается надежным тогда, когда оно дает желаемый эффект, но не когда различные специалисты выписывают одно и то же лекарство в сходных случаях.
Любое руководство по теории тестов перечисляет множество возможных источников случайных ошибок. В качестве таких источников могут быть названы: сам человек, колебания внимания и работоспособности, забывчивость, легкомысленное отношение, импульсивность. Второй источник — это среда. Окружение различается объективно и субъективно. Оно по-разному влияет на субъекта, работающего с тестом. Наконец, и сами методики, и процедуры, и даже сами исследователи могут быть источниками ошибок. В той мере, в какой можно учесть или устранить эти факторы, они не являются источниками «ненадежности» теста, но всегда остаются иные, неконтролируемые, ошибки. Существует ряд практических процедур, определяющих случайные ошибки. Теория «обобщаемости» («generalizability theory») Кронбаха, Глезера, Нанды и Раджаратнама (1972) наряду с другими может рассматриваться как система, упорядочивающая источники ошибок. Эта теория определяет различные коэффициенты надежности применительно к той конкретной области заданий, показатели которой психолог хочет обобщить: например, относительно заданий (внутренняя согласованность), относительно времени (стабильность), относительно оценок разных экспертов (согласие между теми, кто производит оценивание). Дисперсионный анализ применяется для оценки всех источников (см., например, Van der Kamp, 1976, De Gruvter & Van der Kamp, 1991).
Надо признать, что психологам, математикам и методологам не так легко представить себе, что же такое случайная ошибка «на самом деле». Но, может быть, к этому и не
следует стремиться. В математических моделях трудностей с понятием случайной ошибки не возникает, а практическая ценность этого понятия доказана (личное сообщение Сниджерса, Амстердам, 20 декабря, 1994).
Исторически сложилось так, что надежность измерительного инструмента или процедуры измерения определяется с помощью двух конкретных показателей: ошибки измерения и коэффициента надежности. Первый отражает расхождение тестовых баллов, получаемых у одного человека. Если величина этого расхождения мала, то измерение может быть признано надежным. Стандартная ошибка рассматривается как стандартное отклонение в процессе большого числа измерений на одном и том же человеке. Практически это недостижимо, так как невозможно много раз предлагать работу с одним и тем же тестом одному и тому же человеку. Выходом из этой ситуации стало введение коэффициента надежности. Коэффициент надежности является выражением двух отношений: постоянства — непостоянства и стабильности — нестабильности. Существует несколько коэффициентов, описание которых можно встретить в любом руководстве по использованию тестов. В 1937 году Кьюдер и Ричардсон составили список этих коэффициентов. Хорошо известны предложенные ими KR-20 и KR-21.
Разработка первого коэффициента надежности приписывается Спирмену (1904). Если невозможно подвергнуть одинаковым тестовым испытаниям одного и того лее человека и не существует его двойника (ведь можно же подумать о монозиготных близнецах!), то, очевидно, нужно проявить некоторую изобретательность, чтобы создать «копию» этого человека. Оригинальное решение Спирмена заключалось в том, чтобы сконструировать неких искусственных «двойников для разных целей», по выражению Уиттманна (1988, стр. 513). То же было сделано Фишером, отцом дисперсионного анализа. Он тоже создавал искусственных двойников, используя их в разных целых. Результаты испытуемых внутри клеток матрицы двумерного распределе-ния представляют собой результаты «двойников», выбранных для оценки дисперсии ошибки. Это, конечно, не реальные, а статистически сконструированные двойники. Задания в тесте Спирмена — это «теоретические» двойни-
ки, потому что они представляют случайную выборку в одной из областей вопросов теста. Это было одной из причин определения надежности для параллельных тестов Гуллик-сена (1950). Блестящая идея Спирмена позволяет определить надежность в виде формулы: 1 минус отношение дисперсии ошибки к общей дисперсии (см. гл. 1).
У одного и того же теста могут быть различные коэффициенты надежности. Однако изначально нужно знать, какой тип надежности подходит для тех или иных практических и исследовательских целей. Например, что является наиболее приемлемым — согласие ли между экспертами, между разными измерениями, между разными заданиями одного и того же теста или двумя частями одного теста. Пользователь тестов должен выбрать коэффициент, наиболее соответствующий его целям. Обратившись к справочникам, можно определить, имеется необходимый коэффициент надежности или нет.
Понятие «надежность» используется для характеристи-.-ки тестов, методик и процедур оценивания. Под «надежностью» понимается повторяемость и согласованность результатов Тестирования. Концепция надежности предполагает также оценку неизбежных случайных ошибок. Считается, что расхождение между результатами тестирования в отношении какой-либо характеристики основывается на реально существующих, стабильных различиях между людьми. Допускается, что истинные результаты человека стабильны во времени. В основе лежит допущение, что однажды полученные показатели не изменяются (Feldt & Brennan, 1989, Wittmann, 1988, Nunnally & Bernstein, 1994). Это предположение присутствует в известных руководствах по теории тестов (Gulliksen, 1950). Следовательно, можно говорить об «истинных» баллах (истинных в платоновском смысле, т.е. подлинных, идеальных сущностей), в соответствии с которыми все изменения во времени являются только «видимостью». В настоящее время исследователи уже не делают предположений о существовании неизменных истинных показателей, но требование надежности тестовых показателей остается, поскольку истинные или надежные показатели рассматриваются как предполагаемая оценка многих независимых повторных процедур тестирования. Однако эти истинные или надежные баллы могут изменяться с течением времени.
Понятие надежности в психодиагностике специально разработано для характеристики тестов и других методик. Теоретическая основа заимствована из теории тестов. Но применительно к психодиагностическому процессу концепция надежности обычно не рассматривалась. В каком смысле психодиагностический процесс может быть назван надежным и как можно оценить надежность процесса оценивания? Прямого ответа на этот вопрос не существует.
В первой главе приведено описание измерения случайной ошибки. Учет случайной ошибки позволяет обеспечить интервалы надежности для полученных баллов. Психодиагност предпочитает иметь дело не с точечным оцениванием, а с интервальным, при котором существует 95-процентная вероятность того, что будут получены истинные показатели человека. Кстати, синоптики, делая прогноз погоды, поступают примерно так же.
Невозможно не видеть ценность понятия случайной ошибки. Эти ошибки можно оценить с помощью некоторых искусственных конструктов («двойников» Спирмена). Однако они остаются чуждыми нашему интуитивному пониманию. Представление о надежности на уровне здравого смысла иногда имеет сходство с психологической концепцией валидности. Отметим, что представляется достаточно соблазнительным рассматривать полученные результаты как стабильные. Однако такого условия нет в современной теории тестов. Классическое понятие параллельного теста базируется на скрытом допущении, что вещи никогда не меняются (см. также Wittmann, 1988). Следствием этого является то, что в теории отсутствуют средства понятийного описания и процедуры измерения феномена динамики и изменений. Слишком просто сказать, подобно Платону, что все изменения — это только «видимость» и что «ничто не ново под луной». Наннелли и Бернштейн (1994) с некоторым сожалением приводят этот вывод в своем собственном руководстве, но это не больше и не меньше, чем следствие из классической теории тестов.
Подведем некоторые итоги. Концепция надежности является важной и сложной. В руководствах по проведению психологичесого оценивания приводится описание различных коэффициентов надежности. Их вычисление основано преимущественно на классической теории тестов. Концеп-
ция надежности развивалась внутри психологии, но она используется и в рамках других наук. Можно встретить замечания, что в психологии слишком много внимания уделяется ошибкам, потому что сами психологические концепции содержат слишком много ошибок. Однако Наннелли и Бернштейн (1994) замечают, что проблемы коррекции ошибочного оценивания не чужды медицинским и естественным наукам. Так, например, при измерении давления может быть зафиксировано некоторое непостоянство, как и при измерении психологических характеристик (Lenders, 1988).
3.1.3. Проблема согласованности трех уровней психодиагностики при определении надежности
В предыдущем разделе описывались житейские представления о надежности и психологические концепции надежности, обсуждались различия между ними. Житейские представления о надежности можно углубить и дополнить положениями научной психологии о существовании случайных ошибок, согласованности и повторяемости. Также возможна и обратная ситуация, когда представления из житейской психологии дадут толчок для разработки содержания понятия надежности.
Отношение между математическим определением надежности и содержанием психологических теорий нельзя назвать простыми и ровными. Леви (1974, стр. 21) критиковал классическую теорию тестов, отмечая, что «...теория тестов сильна своим практическим применением, но ее отношение к другим психологическим теориям сомнительно, неясно». Уиттманн (1988) делает замечание сходного характера, а Вуд (1989) считает, что то же самое может быть высказано и по адресу современной теории анализа ответов на задания теста (IRT).
Конечно, психометрики выдвигают аргументы в свою защиту, отмечая при этом недостатки содержания самих психологических теорий и говоря о том, что исследователи не понимают теории тестов. Например, Мелленберг (1980) приводит в качестве примера исследование клинических психологов, которые оценивают «адаптацию», рассматривая различия между показателями, полученными при характеристике «образа-Я» и характеристике «идеального
9?,
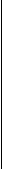 образа-Я». Клинические психологи были удивлены, не обнаружив корреляции этих показателей с другими индикаторами адаптации. Мелленберг отметил ненадежность показателей различий и вероятность того, что существует корреляция между двумя этими измерениями. В полученных результатах нет ничего удивительного, считает Мелленберг: они могли быть предсказаны исходя из определения надежности показателей различий в классической теории тестов.
образа-Я». Клинические психологи были удивлены, не обнаружив корреляции этих показателей с другими индикаторами адаптации. Мелленберг отметил ненадежность показателей различий и вероятность того, что существует корреляция между двумя этими измерениями. В полученных результатах нет ничего удивительного, считает Мелленберг: они могли быть предсказаны исходя из определения надежности показателей различий в классической теории тестов.
Иногда происходит просто путаница. Автору этой книги предложили однажды высказать свое мнение о тесте, который оценивает способность детей воспринимать предмет, показанный с разных сторон, как тождественный. Методика основана на концепции Пиаже о понимании необходимости учета точки зрения на объект. Пиаже использовал известный тест с тремя горами: детям предлагалось описать, что, по их мнению, видят те дети, которые смотрят на горы с другого места. Маленькие дети допускают ошибки при выполнении этого теста. Ошибки учитывались при начислении ребенку баллов за выполнение теста. Для детей разного возраста был определен коэффициент согласованности. Данный показатель оказался ниже для старших детей и выше для детей из семей с низким социально-экономическим статусом. Однако, это объяснялось той простой причиной, что показатели разброса для маленьких детей и детей из семей с низким социально-экономическим статусом были больше. Указанный феномен является феноменом развития, т.к. более старшие дети делают меньше ошибок при решении заданий на понимание перспективы. Следовательно, при работе с этим тестом должен быть использован другой индекс надежности. * Попытка связать психологию, занимающуюся разработкой предметного содержания, с психометрикой или со статистической моделью может быть обнаружена при разработке теории аспектов (the facet theory). В рамках этой теории анализируются соответствующие и независи-. мые аспекты конструктов и идет поиск приемлемых способов их оценивания (см. например, De Groot & Medendorp,
1986).
Как показано в этой главе, взаимодействие между уровнями протекает не всегда гладко. Временами оно ведет к
трениям между психологами, занимающимися разработкой предметного содержания, с одной стороны, и психометриками — с другой. Это противостояние имеет, вероятно, тот же характер, что и противоречие между клиническим и статистическим подходами (см. гл. 4). Однако это противостояние способствует также и лучшем пониманию концепций надежности, повторяемости, внутренней согласованности и источников случайных ошибок, а также способов их оценивания.
3.2. Валидность
Представления о валидности существуют как на уровне здравого смысла, так и в форме психологической концепции. Понятие валидности занимает важное место в каждой научной дисциплине. В психометрии понятию валидности уделяется не слишком много внимания по сравнению с концепцией надежности. Концепция валидности относительно трудна для изучения и для математического определения. Теория анализа ответов на задания теста (IRT) может быть рассмотрена как специфический вклад психометрии в развитие концепции валидности. Кроме того, существует несколько различных моделей и статистических процедур, которые можно использовать при изучении валидности. Принято считать, что каждая процедура, помогающая ответить на вопросы, имеет отношение к валидности. В последующих главах приводится описание валидности на уровне здравого смысла, представлено философское понимание валидности, в частности те аспекты, которые существенны для психологической науки. Эта информация приводится для того, чтобы определить, насколько ценным для психодиагностики является житейское и философское понимание валидности. Далее рассматривается использование концепции валидности в психологическом тестировании и экспериментальном (и квазиэкспериментальном) исследовании.
3.2.1. Представление о валидности на уровне здравого смысла
Валидность означает «быть валидным», т.е. действительным, эффективным, имеющим реальное отношение к чему-то. О придании валидности говорят, например, в случае утверждения документа, результатов голосования, вступ-
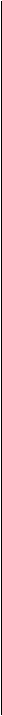 ления в силу закона и т.д. О методике или процедуре говорят, что она валидна для определенных целей. Но невозможно сказать о человеке, что он «валиден» аналогично тому, как мы говорим о его «надежности». Представление о валидности на житейском уровне содержит отчасти и философские элементы. Например, ответ детей на вопрос: «Как ты узнал, что другие дети говорили правду?» — содержит те же критерии, которые встречаются и в философских работах (Van Houdt, 1994). В своих ответах дети от 7 до 11 лет указывают на:
ления в силу закона и т.д. О методике или процедуре говорят, что она валидна для определенных целей. Но невозможно сказать о человеке, что он «валиден» аналогично тому, как мы говорим о его «надежности». Представление о валидности на житейском уровне содержит отчасти и философские элементы. Например, ответ детей на вопрос: «Как ты узнал, что другие дети говорили правду?» — содержит те же критерии, которые встречаются и в философских работах (Van Houdt, 1994). В своих ответах дети от 7 до 11 лет указывают на:
1) связь между утверждениями человека и реальными событиями;
2) связь утверждения с предыдущими суждениями (связанность);
3) тот факт, что проблема решится, если будет рассказано, что случилось (прагматическая полезность);
4) согласие между независимыми наблюдателями (интерсубъектный консенсус);
5) тот факт, что никто не отрицает истинность утверждения (ассенсус).
3.2.2. Житейские представления о валидности и понятие валидности в психодиагностике
Принцип корреспонденции и валидность. Понятие валидности используется для характеристики теста, процедуры или утверждения. Часто валидность определяется как теория (принцип) корреспонденции. В рам-ках этой теории определяются отношения между субъектом, познающим мир, и объективной реальностью. Существует несколько вариантов этой теории. До девятнадцатого века наиболее распространенной была теория истины. Первым исследователем формальной истинности объяснения, а затем и создателем теории корреспонденции был Аристотель. Вслед за ним Фома Аквинский попытался определить истину как соответствие (adequatio) процессов познания (intellectus) реальной действительности («реальности вне языка») (res). В этих теориях центральным является отношение между суждением в той или иной форме (на уровне житейских представлений, на языке логики или математики) и реальным миром. Это очень старые вопросы о взаимоотношениях между объектом и субъектом, между
бытием и сознанием, между реальной действительностью и нашим представлением о мире, между нашими суждениями и реальным положением дел.
Эти вопросы являются важными и для психодиагностики, например вопрос о том, как соотносятся оценки, данные психодиагностом, и оцениваемые характеристики личности. Точна ли оценка психодиагноста? Еще один случай проявления теории корреспонденции можно рассмотреть на примере теории когнитивного развития Пиаже, согласно которой развитие интеллекта ребенка проходит несколько стадий от сенсомоторного интеллекта до стадии формальных операций, и только на последней стадии у ребенка возникает способность понимать основные свойства реальности.
Теория корреспонденции допускает определенное расхождение мнений. Возникает вопрос: какой язык наиболее адекватен реальности — используемый в повседневном общении, логический или математический? Существуют попытки разрешения этого вопроса путем создания формализованного мета-языка (например, теория формальной семантики Тарского, 1949). Представители философии обыденного языка (например, Сирль (1969) изучают особенности используемого в повседневном общении языка, при этом особое внимание уделяется рассмотрению функций языка. Часто при описании исследований можно встретить термин «наивные реалисты», применяемый для обозначения людей, использующих обычный язык. «Наивностью» в данном случае называется представление человека о том, что его опыт, восприятие и мысли суть непосредственное отражение окружающего его реального мира. Логический и математический способы передачи информации формальны и абстрактны. Они слишком далеки от языка повседневного общения. Другой дискуссионный вопрос — это вопрос о том, что, познавая мир, сам ли человек привносит в него что-то или же действительность привносит в «человека познающего». Что первично — законы нашего мышления или реальность?
Эти вопросы носят философский характер, но оказывают влияние и на психодиагностику. Например, относится ли данный вопрос к когнитивному развитию или же это проблема адекватной операционализации конструкта? Имеет
4 Я.тер Лаак
ли гипотетический конструкт дополнительный смысл? Под этим понимается то, что конструкт не полностью покрывается операциональным определением. Эти вопросы не ста-новятся предметом рассмотрения конкретных психологических исследований, поскольку велик риск того, что эмпирические исследования на данную тему увязнут в зыбкой почве философских вопросов, ответы на которые вряд ли могут быть найдены.
Критерий когеренции и валидность.
Валидность может быть рассмотрена как соответствие критерию когеренции. В этом случае какое-либо утверждение должно соответствовать не реальной действительности, а другим утверждениям. В некоторой единой системе утверждения должны быть связаны между собой. Новое утверждение должно «подходить» ко всем остальным, не обнаруживая каких бы то ни было противоречий. В случае, если существуют какие-либо расхождения, возможно два варианта решений: либо новое утверждение должно быть отвергнуто, либо нужно отказаться от целой системы. Второй вариант не менее вероятен, чем первый, поскольку вполне может быть так, что собранные воедино утверждения не имеют отношения к действительности, а являются лишь «причудой» создателя теста. От такого положения дел в какой—то мере нас предохраняет то, что существуют некоторые общепризнанные представления об окружающей действительности, настолько очевидные, что нет необходимости их доказывать. Это так называемые «Protokollsatze»*, т.е. основополагающие утверждения, которые не противоречат опыту. Логический позитивизм, играющий важную роль в психологии, имеет в своей основе несколько аксиоматических утверждений, напоминающих «Protokollsatze». Нейрат (1931) считал неверным сравнение высказываний с реальностью. Все знания принимают форму утверждений и последнее не должно противоречить другим утверждениям.
Критерий когеренции подвергается критике, и вопрос о нем вызывает споры. В каких именно случаях утверждение считается противоречивым? На этот вопрос обычно отвечают формально. Такой ответ не подходит для утверждений.
* Protokollsatze (нем.) — протокольные выражения. Согласно теории Карнана, они описывают содержание непосредственного опыта или феномены, следовательно, простейшие познаваемые факты (прим. перев.).
где преобладает смысловое содержание. Психологи оперируют смыслами, их конструкты не являются чисто формальными; высказывания клиентов не понятны в формально логическом смысле. Другая линия критики указывает на то, что возможна иная система связанных утверждений, относящихся к той же области реальности.
Критерий когеренции важен для психодиагностики. При изучении описаний связанность отдельных высказываний о событиях, чувствах и поведении может быть критерием валидности этого описания или повествования. До сего времени психодиагносты редко изучали повествования, предметом их рассмотрения являлись преимущественно анамнез, интервью и тестовые показатели. Наконец, требование внутренней согласованности заданий теста может быть сопоставлено с критерием когеренции.
Критерий полезности и валидность.
Рассмотрим практическое значение (полезность) или функциональность критерия валидности. В данном случае речь идет не о соответствии аспектам реальности и не о соответствии другим утверждениям. Здесь подразумевается прежде всего то, что утверждения (содержащие в себе некоторую информацию) и идеи дают человеку возможность с большим или меньшим успехом взаимодействовать с реальной действительностью. Для определенных це
 2015-07-14
2015-07-14 448
448







