Раньше все, или почти все, похожие деривативы соответствовали жесткому стандарту, а договоры заключались на биржах, в том числе Чикагской товарной бирже, которая и подарила миру идею погодных производных бумаг. Сегодня большинство сделок заключаются без посредника и учитывают особенности каждого участника; большинство деривативов оформляются банками, запрашивающими за свои услуги солидное вознаграждение. По сведениям Банка международных расчетов, к декабрю 2007 года общий объем действительных производных контрактов, заключенных без посредника, составил умопомрачительные 596 триллионов долларов при совокупной рыночной стоимости в 14,5 триллиона[40]. Пусть традиционные инвесторы вроде Уоррена Баффета называют их финансовым эквивалентом оружия массового уничтожения, но в Чикаго уверены, что никогда прежде мировая экономическая система не была так надежно защищена от неожиданностей (а сам Баффет, кстати, деривативами совершенно не брезговал).
Факт остается фактом: великая финансовая революция разделила мир на два лагеря — тех, кто хеджирует свои риски или по крайней мере может это сделать, и всех остальных. Пропуском в клуб служат деньги. Как правило, хедж-фонды хотят иметь дело с семизначными, в худшем случае шестизначными вложениями, просят 2% за управление вашими средствами сразу (гриффиновская «Цитадель» берет вчетверо больше) и 20% от прибыли, если таковая будет получена. Большинство крупных корпораций могут застраховаться от внезапных колебаний процентных ставок, обменных курсов и товарных цен. Раз уж на то пошло, могут они защититься и от грядущих ураганов и терактов — надо только купить катастрофные облигации и другие деривативы. Простые смертные не хеджируются, потому что у них нет денег, а если бы и были — не ясно, как это сделать. Нам остается лишь рассчитывать на страховые полисы, несовершенные и тоже дорогие, или уповать на социальное государство, которое спасет нас от всех бед.
|
|
|
Есть и третья, совсем незамысловатая стратегия: как в старые добрые времена, копить на черный день. Или, если хотите, приобретать те активы, что в будущем должны подорожать и избавить вас от головной боли. В последние годы все больше семей в попытке упрочить свое положение покупают дом — эта простая инвестиция, по идее, будет увеличиваться и увеличиваться в стоимости, и кормильцы уйдут на пенсию с чистой совестью. Просчитались с пенсионным планом — ничего страшного. Недостаточно застраховали свое здоровье — не волнуйтесь. У вас в запасе всегда есть дом, милый дом.
Лучше страховки не придумаешь, и все пенсионные планы обзавидуются, но в такой подход заложен один очевидный недочет. По сути, вы ставите все деньги на один-единственный рынок — рынок недвижимости — и отрубаете пути к отступлению. К сожалению, очень часто ваше жилище перестает быть вашей крепостью и обращается в карточный домик — об этом мы и поговорим в следующей главе. Что еще печальнее, в истинности нашего утверждения воочию убеждаются не одни только обитатели Нового Орлеана.
|
|
|
Глава V
Как за каменной стеной
Собственность — любимая экономическая забава англоязычного мира. Как никакой другой аспект финансовой жизни, она будоражит воображение огромных масс людей. Ну какое еще инвестиционное решение породило столько разговоров за обеденным столом? Рынок недвижимости неповторим. Каждый — каждый! — взрослый человек, профессор он или неуч, имеет свое мнение по поводу его перспектив. Малые дети учатся карабкаться по имущественной лестнице, прежде чем получают карманные деньги*. Обучение проходит легко и приятно — на примере самой настоящей игры в собственность.
В 1903 году американка Элизабет Филлипс по прозвищу Лиззи, страстная поклонница экономиста радикальных воззрений Генри Джорджа, произвела на свет игру, сегодня известную всему миру как «Монополия». В утопических грезах Джорджа и его ученицы все налоги заменялись единым налогом на землю. По задумке создательницы, игра должна была изобличить несправедливость уклада, при котором малое число землевладельцев богатело за счет арендных платежей от
И в результате загадывают с трудом выполнимые желания. С 1975 по 2006 г. цены на жилье в Англии выросли в 15 раз, и те покупатели-новички, что не рассчитывают на поддержку родителей, теперь могут и не мечтать о собственном доме.
своих жильцов. «Игра землевладельца» — так назывался прототип «Монополии» — кое в чем походила на свою знаменитую родственницу (непрерывная квадратная лента игрового поля, угол со зловещей надписью «Отправляйтесь в тюрьму»), но была одновременно слишком сложной и нравоучительной, чтобы оказаться успешной. Среди ее преданных почитателей с самого начала выделялись Скот Ниринг из Уортона и Гай Тагвелл из Колумбийского университета: оба профессора использовали игру на своих занятиях, правда в чуть измененном виде. И лишь после того как друзья пригласили Чарльза Дарроу попытать счастья на настольной версии приморского курорта Атлантик-Сити (штат Нью- Джерси), сидевший без работы водопроводчик сумел разглядеть таившиеся в «Монополии» коммерческие возможности. Дарроу перерисовал саму площадку, так что теперь каждая улица отмечалась яркой полосочкой, и выпилил из дерева малюсенькие дома и отели — игроки могли «строить» их на своих клетках. Бывший сантехник обладал не только золотыми руками (при желании он выдавал готовую игру за 8 часов), но и деловой смекалкой, и уже на Рождество 1934 года жители Филадельфии могли приобрести его версию игры в универмаге Джона Уонамейкера и магазине игрушек Ф.А.О. Шварца. Уже очень скоро Дарроу перестал справляться с заказами в одиночку. В 1935 году права на «Монополию» перешли к основанной за полвека до того братьями Паркер фирме, как раз и занимавшейся настольными играми (с «Игрой землевладельца» те в свое время решили не связываться)1.
Что было заумным тренажером для идейно близких профессоров, постепенно превратилось в необременительное развлечение для мечтающих обзавестись недвижимостью, и в таком виде игра поступила на прилавки в тяжелые годы Великой депрессии. Удивительным образом заведомо фальшивые, кричаще яркие купюры притягивали обедневших американцев. В апреле 1935 года фирма братьев Паркер выступила с объявлением:
Как видно из названия, игроки торгуют недвижимостью, железными дорогами и предприятиями общественного пользования, стараясь заполучить монополию на тот или иной вид собственности и таким образом взимать ренту со своих соперников. Не сомневайтесь — у вас дух завхватит при встрече с хорошими знакомыми: ипотекой и налогами, общим благотворительным фондом и срочными сделками, арендой, процентными платежами, запущенной недвижимостью, отелями, доходными домами, энергетическими компаниями и многими другими; общение с ними вам облегчат хрустящие бумажные деньги2.
|
|
|
Иначе как феноменальным успех «Монополии» назвать трудно. Еще до конца 1935 года разлетелись около четверти миллиона коробок. За четыре года на свет появились британская (лично я начинал с лондонского варианта игрового поля производства фирмы Waddington's), французская, немецкая, итальянская и австрийская версии, хотя фашистские власти откровенно смущала эта капиталистическая до мозга костей забава3. В отличие от стран — участниц Второй мировой войны, «Монополия» и вправду завоевала весь мир, так что британские разведчики вовсю использовали поставлявшиеся Красным Крестом доски для игры, переправляя пленным в немецкие лагеря географические карты и валюту, короче помогая тем бежать4. «Монополия» не случайно покорила и безработных американцев, и пленных британцев. Если жизнь вас обидела, то «Монополия» сделает уважаемым магнатом. Переча своей изобретательнице, игра словно говорит нам: быть собственником хорошо. Чем обширнее ваши владения, тем больше вы зарабатываете. Мир, и особенно те его части, где говорят по- английски, затвердил урок на отлично: хотите вложить деньги — берите кирпичи и раствор, стройте дом.
«Как за каменной стеной» — именно эти слова звучат в самых разных уголках планеты в головах миллионов людей, одержимых единым желанием: обзавестись собственным домом. В мире финансов слова эти обладают куда более специфическим смыслом. Вот каким: нет ничего безопаснее, чем давать в долг собственникам. Почему? Если они откажутся платить, вы просто- напросто заберете дом (или дома) себе. В немецкой культуре землю и здания называют «недвижимой» собственностью. И не случайно большинство предпринимателей-дебютантов в США опираются на ссуду, полученную под залог собственного жилища. Банки отбросили последние сомнения и с удовольствием кредитуют желающих приобрести недвижимость — и это понятно. С 1959 года совокупный объем задолженности по ипотеке в США вырос в 75 раз. К концу 2006 года с проживающих в собственных домах американцев причиталась сумма, эквивалентная 99% ВВП страны, а за полвека до того — лишь 38%. Благодаря бурному росту кредитования стал возможен и бум инвестиций в жилищное строительство, которое в 2005 году достигло максимального объема за пять лет. Какое-то время даже казалось, что новых домов буквально не хватает на всех. Почти половиной своего увеличения в первом полугодии 2005-го ВВП США обязан строительной отрасли.
|
|
|
Увлечение англосаксов недвижимостью вскоре легло в основу колоссального политического эксперимента: на свет появились первые в своем роде «демократии собственников», где от 65 до 83% граждан владели собственными домами[41]. Суть именно в том, что большинство голосующих владеют недвижимостью. Бытует мнение, что такой подход поможет всем странам без исключения. Оно как будто подтверждается фактами: рынок недвижимости в последние годы взлетел вверх не только в «английском мире» (куда входят Австралия, Канада, Ирландия, Соединенное Королевство и США), но и в Китае, Франции, Индии, Италии, России, Южной Корее и Японии. В Организацию экономического сотрудничества и развития входят восемнадцать стран; в 2006 году в восьми из них был зафиксирован рост цен на жилье более чем на 10%. И США вовсе не стоят особняком — в Норвегии и Нидерландах в 2000-2007 годах надулись пузыри позначительнее5.
Значит, нам можно расслабиться — ведь мы за каменной стеной? Или стоит с ужасом ждать, пока шикарный особняк рухнет, словно карточный домик?
Владетельная аристократия
Сегодня лишь в самых нищих районах Великобритании и США, вроде рабочих кварталов на востоке Глазго или Детройта, собственник считается редкой птицей. Вообще-то так «(было всегда и везде: имущий класс существовал в виде тончайшей прослойки внутри аристократической элиты. Усадьбы переходили от отца к сыну вместе с почетными титулами и политическими привилегиями. Простые съемщики — все остальные — платили дворянам за право проживания на их земле. С собственностью и только с ней — приходило право голоса на выборах. В сельских районах Англии вплоть до 1832 года голосовать могли только те полноправные владельцы, кто получали со своей собственности не менее 40 шиллингов в год, — так велел принятый еще в XV веке закон. А таковых во всей Англии (и Уэльсе в придачу) набиралось в лучшем случае 435 тысяч человек, причем две трети электората были так или иначе привязаны к одному из нескольких крупных землевладельцев. Из 514 членов палаты общин, представлявших Анг- лию и Уэльс в начале XIX века, примерно 370 получили назначение благодаря покровительству 180 богатейших помещиков. Примерно пятую часть депутатов нижней палаты парламента составляли сыновья лордов.
С тех пор изменилось многое — но не все. Сегодня 40 из бо миллионов акров британской земли принадлежат 189 тысячам семей6. Герцог Вестминстерский сохраняет за собой третью строчку в списке богатейших людей страны его состояние оценивают в 7 миллиардов фунтов; также среди британских богатеев — граф Кадоган (2,6 миллиарда) и баронесса Говард де Вальден (1,6 миллиарда). Разница в том, что аристократы уже не заправляют политической жизнью страны. Последним представителем этого сословия на посту премьер-министра был Алек Дуглас-Хьюм, четырнадцатый граф Хьюм, ушедший в отставку в 1964 году (проиграв, как говорил он сам, «четырнадцатому мистеру Вильсону»). По завершении реформы палаты лордов парламент
Великобритании наконец избавится от наследственных пэров. Закат политического господства аристократии как только не объясняли. Но почти все исследователи упустили из виду главную его причину — финансовую. До 1830-х годов судьба благоволила тогдашней элите общества — тридцати семьям, владения каждой из которых приносили ей свыше 60 тысяч фунтов ренты в год. В годы Наполеоновских войн безудержный рост населения и инфляция сообща взвинтили цену пшеницы вдвое, заодно подняв в стоимости и земельные участки. Промышленная революция золотым дождем пролилась на тех, кто вовремя застолбил угольные месторождения и обзавелся недвижимостью в городах; аристократы — самая влиятельная политическая группировка — наслаждались обильными подачками от государства. Иным предводителям дворянства этого было мало, и они набирали долгов сколько было можно. Одни пускали средства на «улучшение» своих поместий — осушали поля и огораживали прежде общинные земли.
Другие не желали отказываться от дорогостоящего образа жизни. Герцоги Девонширские, например, тратили от 40 до 55% своего годового дохода на выплату процентов — так велики оказались наделанные в XIX веке долги. «К вашим богатствам, — жаловался один из их юристов, — да еще бы толику самообладания»7.
Какими бы обширными ни были ваши недвижимые владения, они служат защитой только лишь вашим кредиторам, и в этом беда всех собственников. Как верно замечает мисс Демолайнс из романа Энтони Троллопа «Последняя Барсетширская хроника», «земля никуда не убежит»*. Соглашаясь с ней, многие инвесторы XIX века, включая мелких юристов, частные банки и страховые компании, считали ипотеку беспроигрышным — и безрисковым — вариантом размещения собственных средств. Заемщик же, случись ему расстаться с недвижимостью за долги, останется один на один со своим доходом. Именно дохода процветающие викторианские землевладельцы и лишились, причем очень быстро и неожиданно. Стул под ними начал шататься еще в конце 1840-х: резко пошло вверх мировое производство зерновых, повсеместно снижались транспортные расходы и падали грозные тарифные барьеры — печально известные Хлебные законы потерями силу в 1846 году. С рекордных 3 долларов за бушель в 1847 году цена на зерновые рухнула до 50 центов в 1894-м, увлекая за собой доходы с сельскохозяйственных угодий. Если в 1845 году загородные поместья приносили 3,65% дохода, то спустя сорок лет — всего 2,51%8. Журнал «Экономист» констатировал: «Английская земля — ничто не пользовалось настолько безграничным доверием, и мало что оказалось в последнее время в столь плачевном состоянии». Беды землевладельцев в Ирландии усугубляла накалявшаяся политическая обстановка. В центре нашего рассказа — имение Стоу в графстве Бакингемшир: в закате и падении построившей его семьи как в зеркале отражается судьба целых поколений владетельных дворян.
Сам дворец Стоу великолепен, и отрицать это может лишь слепой. Размашистые колоннады, портик работы Ванбру и замечательный парк, разбитый Ланселотом Брауном по прозвищу Способный, — перед нами один из лучших образцов аристократической архитектуры XVIII века и вдобавок прекрасно сохранившийся. И все же кое-чего в Стоу не хватает, а если быть точным — не хватает очень многого. Сиротливо смотрятся ниши в грандиозном Мраморном зале раньше в каждой стояло по статуе в романском стиле. Роскошные камины эпохи Георгов, прежде украшавшие парадную комнату, уступили место дешевым викторианским поделкам скромных размеров. Пустуют комнаты, в которых раньше яблоку не удалось бы упасть, не задев изысканной мебели. Но почему? Потому что когда-то Стоу принадлежал Ричарду Плантагенету Темпл-Ньюджент-Бриджес-Чандос-Гренвилю, шестому виконту Кобэму и, по совместительству, второму герцогу Букингемскому.
 Имение Стоу — аристократическое великолепие, увязшее в долгах.
Имение Стоу — аристократическое великолепие, увязшее в долгах.
|
Связи в самых высоких политических кругах и продуманный подход к женитьбам позволили его предкам за каких-то 125 лет из баронов стать герцогами, и имение Стоу было лишь частью их обширных владений по всей стране и за ее пределами9. Подсчитано, что Ричард Темпл имел 67 тысяч акров земли в Англии, Ирландии и на Ямайке. Казалось, родовитый англичанин мог позволить себе все. Деньги он разбрасывал так усердно, будто боялся, что их отменят: тратился на любовниц и незаконнорожденных детей, преследовал душеприказчиков покойного тестя, подмасливал нужных людей — и становился рыцарем ордена Подвязки, противостоял биллю о реформе и отмене Хлебных законов — короче говоря, герцог ставил интересы земли чуть ли не выше собственных и не скупился, когда убеждения надо было подкрепить звонкой монетой. Он гордился тем, что «боролся со всеми мерами, могущими нанести ущерб сельскому хозяйству, какое бы правительство их ни предлагало». Когда отменили Хлебные законы, Темпл предпочел сложить с себя полномочия лорда — хранителя малой печати в правительстве сэра Роберта Пиля10. Так или иначе, к 1845 году — иными словами еще до крушения цен на зерновые — герцог был по уши в долгах. При поступлениях в 72 тысячи фунтов он расходовал 109 140 фунтов в год, а кредиторам причиталось 1 027 282 фунта11. Большая часть дохода герцога уходила на обслуживание долга (ставка по иным кредитам достигала 15%) и выплаты тем, кто застраховал жизнь Темпла и таким образом подарил надежду его кредиторам12. Страховка служила лишь ширмой, иллюзией рассудительности — напоследок безумец гульнул на все.
Наконец-то заполучив в гости королеву Викторию и принца Альберта — столь желанный визит назначили на январь 1845-го, — он чуть ли не буквально перевернул свою резиденцию вверх дном. Весь дом был под завязку забит роскошествами по последнему слову моды. В ванной комнате дорогих гостей на полу лежали тигровые шкуры. Язвительная Виктория не смогла сдержаться: «Ни в одном из моих двух дворцов таких богатств нет». Все только начиналось: герцог за свои средства пригласил целый йоменский полк, и прибытие королевы с супругом было встречено приветственными залпами. Засвидетельствовать свое почтение выстроились четыре сотни жителей имения верхом на лошадях и еще примерно столько же с иголочки одетых чернорабочих, не считая трех духовых оркестров и выписанного из Лондона на один-единственный день полицейского расчета13. Такого герцогская казна выдержать не могла. Маркиз Чандос, старший сын виновника, был призван взять дела в свои руки тут же по достижении совершеннолетия, дабы отвести угрозу благополучию всего почтенного семейства. Что он и сделал, не избежав, впрочем, изнурительной судебной тяжбы14. В августе 1848 года, к ужасу герцога, все содержимое дворца Стоу пошло с молотка. Двери старинного отчего дома распахнулись, впустив внутрь орды охотников за почти что дармовым антиквариатом. Им было чем поживиться: столовое серебро, вино, фарфор, произведения искусства и редчайшие издания отходили всем желающим, и бессердечный «Экономист» замечал, что в своих страданиях герцог походил на «разорившегося торговца керамикой»15. Принеся жалкие 75 тысяч фунтов, распродажа подвела жирную черту под эпохой заката аристократии.
Вдоволь настрадавшись и потеряв всякое терпение, а вместе с ним и весь гардероб, конфискованный властями, от герцога ушла его шотландская жена; бедолага покинул семейное гнездо ради съемного жилища. Все свое время он проводил теперь в лондонском клубе Карлтона, где без остановки строчил не вызывающие доверия воспоминания и приставал к актрисам и замужним женщинам. Лишенный возможности получать деньги по первому требованию, он затаил глубокую обиду на сына — «офицер в моем звании,
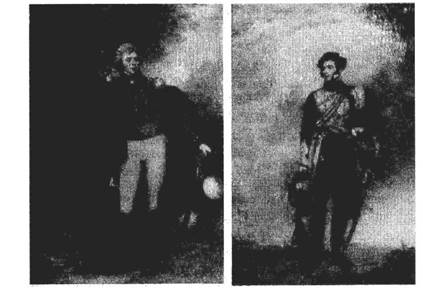
|
Три поколения аристократов: Ричард Гренвилл,
1- й герцог Букингемский (слева вверху); Ричард Гренвилл,
2- й герцог Букингемский (справа вверху); Ричард Гренвилл,

|
3- й герцог Букингемский (слева внизу).
у которого и особых расходов-то нет, получает больше денег»16:
В трудную минуту, когда мной пренебрегают, меня забыли, а кто не забыл — преследует, мой сын оставил отца на произвол судьбы... Завладев его имуществом, наперекор соображениям чести и справедливости, он вредил отцу... и наконец стал свидетелем моего упадка и бесчестья17.
«Я отравлен и ограблен», — жаловался он каждому члену клуба, кто готов был его слушать18. В 1861 году смерть застала герцога в оплаченных сыном номерах «Большой западной гостиницы» близ вокзала Паддингтон. Любопытно, что более сметливый отпрыск в этот момент занимал должность председателя Лондонской и Северозападной железной дороги19. В современном мире надежная работа ценилась выше унаследованных титулов, сколько бы акров земли они с собой ни несли.
Личная трагедия герцога Букингемского стала еще одним предвестием нового, демократического времени. Реформы избирательного законодательства в 1832, 1867 и 1884 годах избавили шею страны от удавки аристократического самодурства. Уже к концу столетия те, кто платили 10 фунтов ренты, голосовали наравне с теми, кто эту ренту получал. Электорат насчитывал 5,5 миллиона душ, охватывая 40% взрослых мужчин. В 1918 году пал имущественный ценз, а еще спустя десять лет к урнам были допущены все взрослые граждане страны независимо от пола. Теперь широкие массы людей обладали правом голоса, но не собственностью. Сами посудите: еще в 1938 году своим обитателям принадлежали менее трети домов в Британии. Первой демократии собственников было предначертано зародиться на другой стороне Атлантики. Младенец появился на свет в результате тяжелейшего финансового потрясения в истории человечества.
Демократия домохозяев
Дом англичанина — его крепость, как гласит пословица. И американцы согласны: «Нет места лучше дома». Устами Дороти в «Волшебнике страны Оз» глаголет целый народ, и не важно, что многие дома похожи друг на друга как капли воды. Происхождение англо-американской модели семьи как зажиточного домохозяйства стоит искать не только в культуре, но и в политике двух государств. Классовое общество, где собственниками могли быть лишь избранные единицы, — это очень по-британски; демократию домохозяев для всех нас открыла Америка.
До 1930-х годов в своих собственных домах жили лишь 40% американцев. Рассчитывать на жилищный кредит могли либо фермеры, либо самые настоящие счастливчики. А те немногие, кому удалось получить деньги в 1920-е годы, наверняка потом пожалели — Великая депрессия лишила миллионы кормильцев по всей стране работы и средств к существованию. Жилищные кредиты выдавались на короткий срок, три-пять лет, и не были «амортизованы». В переводе на человеческий язык это значит, что заемщики регулярно платили проценты, но сам кредит возвращали лишь по истечении срока ссуды, таким образом сталкиваясь с раздутым до предела итоговым взносом. В 1920-х средняя разница между ставками по ипотеке и первоклассным облигациям крупных корпораций составляла около двух процентных пунктов против половины процентного пункта за предыдущие двадцать лет. Процентные ставки различались и по регионам20. Стоило экономике пойти на спад, как обеспокоенные кредиторы просто-напросто отказались продлевать срок действия ссуд. Людей лишали права выкупа закладной — только в 1932-1933 годах таких случаев насчитывалось свыше полумиллиона. К середине 1933-го число жертв выросло до более чем тысячи в день. Цены на недвижимость похудели на 20%21. Лишь после того как жилищное строительство прика- зало долго жить, стало ясно, насколько важную роль оно играло в экономике страны (похожая притча будет сопровождать каждый крупный кризис в XX веке)22. Пожалуй, никто не страдал от депрессии так, как сельские жители, — цены на землю теперь не составляли и половины от уровня 1920 года, — но и горожанам приходилось несладко. В затруднении оказались многие квартиросъемщики, подачек от государства на арендную плату не хватало. А жили на подачки многие: автомобильные фирмы Детройта теперь держали вдвое меньше рабочих, чем в 1929 году, и вдвое урезали их оклады. Депрессия ударила по людям с силой, которую сегодня трудно даже вообразить: безработица, ужасающая нищета, убогость бесплатных столовых, отчаянные странствия в поисках несуществующего дела присутствовали в жизни миллионов — стали этой жизнью. В 1932 году терпение обездоленных кончилось.
Седьмого марта пять тысяч рабочих, попавших под сокращение на автомобильном заводе Форда, маршем прошли по центру Детройта, требуя помощи. Когда безоружная толпа дошла до здания фордовского завода в Ривер-Руж, завязалась потасовка. Внезапно из-за распахнувшихся ворот №4 высыпали полицейские и охранники и открыли огонь по демонстрантам. Пятеро рабочих погибли на месте. Через несколько дней на их похоронах 60 тысяч человек пели «Интернационал». Газета Коммунистической партии обвинила Эдселя Форда, наследника основателя фирмы Генри, в преступном бездействии: «Покровитель искусств, столп Епископальной церкви, вы стояли на мосту и смотрели, как убивают рабочих Ривер-Руж. Вы и пальцем не пошевелили, чтобы их спасти».
Можно ли было разрядить обстановку, грозившую самой настоящей революцией? Эдсель Форд принял едва ли не самое мудрое решение: незадолго до того Детройтский институт искусств заказал фреску, изображающую родной город ареной счастливого взаимодействия людей, а не вражды, мексиканцу Диего Ривере — к нему то и обратился пристыженный промышленник. Выбранные для фрески зал так впечатлил Риверу, что он решил выполнить не два обещанных панно, а все двадцать семь. Форду наброски Риверы понравились, и он согласился профинансировать всю затею, выложив 25 тысяч долларов из собственного кармана. Работа началась в мае 1932-го, спустя считанные недели после столкновений на Ривер-Руж, и заняла всего десять месяцев. Форд не мог не знать, что художник был коммунистом (хоть и неортодоксальным — из мексиканской партии его исключили за симпатию к Троцкому)23. В мечтах Ривере виделся мир без частной собственности, где средства производства принадлежали всем вместе, но никому в отдельности. Фордовский же завод воплощал все, что Ривера так презирал в капиталистическом обществе, — рабочие здесь трудились, а собственники забирали себе продукт их труда, не прилагая ровным счете никаких усилий. Мексиканец также задался целью раскрыть расовые противоречия — они бросались в глаза каждому, кто навещал Детройт, — и наделил использующиеся в производстве стали элементы человеческими свойствами. Смысл аллегории лучше всех объяснил он сам:
Желтая раса — самая многочисленная и похожа на песок. Раса красная, самая древняя на этой земле, — словно железная руда, без которой стали не бывать. Черная раса — уголь, ведь у нее удивительно развито чувство прекрасного, а внутри древних скульптур этого народа, внутри его ритмов и музыки горит нешуточный огонь страсти и красоты. Итак, чувство прекрасного — это огонь, а своим трудом народ достигает той твердости, что передается от углерода углю, а от угля — стали. Люди белой расы напоминают известь не только тем, что она тоже бела: известь заправляет процессом производства стали. Она скрепляет все остальные элементы между собой, эту же роль выполняет в нашем мире белая раса.
 Голодающие маршируют по Детройту, 1932 год.
Голодающие маршируют по Детройту, 1932 год.
|
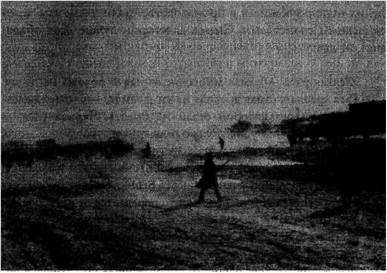 Полиция пускает в ход слезоточивый газ.
Полиция пускает в ход слезоточивый газ.
|
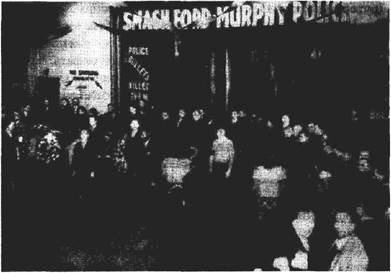
|
«Прекратить полицейский террор Форда-Мерфи!»: митинги протеста в ответ на гибель пятерых демонстрантов.
Городские сановники были потрясены, впервые увидев готовые фрески. Одним из таких был обладатель степени доктора философии, президент колледжа Мэригроув Джордж Г. Дерри:
Злую шутку сыграл сеньор Ривера со своим капиталистическим покровителем, Эдселем Фордом. Риверу наняли для того, чтобы он истолковал сущность Детройта; взамен этот коммунист всучил мистеру Форду, а заодно и музею, свой личный «Манифест». Довольно одного взгляда на центральное панно, что приветствует входящего, и коммунистический мотив, пронизывающий всю композицию и придающий ей цельность, становится ясен. Но обрадуются ли женщины Детройта, согласятся ли узнать себя в мужеподобной тетке с грубыми чертами лица, которая просит помощи и сострадания у своей томной, подчеркнуто чувственной азиатской сестры?24
| ГЛАВА VКАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ |
НАЙЛ ФЕРГЮСОН ВОСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ
Другой член городского совета уверял, что закрасить фрески недостаточно, ведь впоследствии их можно будет извлечь из-под слоя белил. Он призывал к полному уничтожению этого «издевательства над духом Детройта». Надо сказать, что со следующим крупным заказом Риверы ровно это и случилось: Джон Д. Рокфеллер-младший попросил художника украсить стены нью- йоркского Рокфеллер-центра, а тот настоял на использовании в оформлении портрета Ленина вместе с коммунистическими лозунгами вроде «Долой империалистическую войну!», «Пролетарии
 2015-09-06
2015-09-06 314
314








