Характеризуются основные достижения, осуществленные политологией как новой учебной дисциплиной в рамках российского политического пространства, и отмечается 1>н<) теоретических и практических трудностей в становлении предмета.
Автор обращает внимание на актуальность дальнейшей фундаментализации и нйы'ктивизации политического знания, необходимость придания приоритетности науковедению, углублению отраслевой и региональной специализации предмета.
The author gives an account of major achievements of political science as a University discipline in the context of Russian politics. He points out a number of theoretical and practical difficulties in its development.
The author stresses the relevance of further political knowledge development and strengthening of its objective character. The scholarly approach and deeper coverage of n'gional and divisional specifics of the discipline should be given special attention.
О значении политики, пожалуй, нельзя сказать лучше А. Блока: «Быть вне политики - значит прятаться,... замыкаться в индивидуализм, предоставлять тсударству расправляться с людьми, как ему угодно..., т.е. воевать сколько ему шблагорассудится,... расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни» [1, с.357].
|
|
|
Реальность подтвердила не только назревшую потребность в широком политическом образовании, но и необходимость обретения им некоего минимума положительных свойств, образующих самодостаточность предмета, обладающего эффективными способами открытия истин.
Годы преподавания политологии в российских вузах позволяют подвести н этом вопросе некоторые итоги, отметить проблемы, поделиться опытом и наметить перспективы.
Среди основных достижений, осуществленных политологией в рамках российского политического пространства, можно указать: выработку и освоение культуры диалога, его нормативного кодекса; использование диалоговых процедур для экспликации аргументации; введение дискурсивного анализа; построение прогностических моделей в политических исследованиях.
Тем не менее, сегодня еще преждевременно утверждать, что вузовская политология обозначилась во всей своей ценностной весомости: социальной,
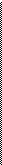

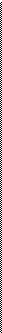
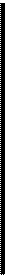
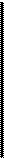 политической, познавательной.
политической, познавательной.
Некритический перенос понятий западной политологии на российскую почву подтвердил обязательность их научной коррекции, рефлексии заимствованных концепций. Опыт показывает, что настала пора поднять статус методологии как науки, усилить и расширить сферу исследований в этой области. Уровень развития знания определяется развитостью науковедения, как высшей обобщающей и смыслообразующей области, позволяющей устанавливать продуктивность теорий, дифференцировать их по;степени объективности, соответствию научным принципам построения, верифицируемости.
|
|
|
Всякое изучение начинается с понимания. Методология политического знания (как и гуманитарного - в целом) совершенствуется, прогрессирует именно с его развитием. Различать, понимать - признак зрелости науки. Формальное понимание, которое может судить о предмете, внешним образом отличается от действительного понимания. «Критерий глубины понимания,А подчеркивал М. Бахтин, - один из высших критериев в гуманитарном познании» [2, с.307].
Обратимся к наиболее важным, на наш взгляд, узловым методологическим
трактовкам обновленного политического знания, определяющим в содержании
предмета приобретения и проблемы.,
Острая проблема человеческого (индивидуального) измерения политики, ее соотношения с ценностями индивидуального блага востребовали в начале 90-х годов проведение гуманитарной экспертизы советского прошлого, и здесь важная роль принадлежала политологии. Рассматривать проблемы в терминах «ценность-человек» стало методологическим требованием новой дисциплины, правомерность которого признается практически всеми авторами учебной литературы. Антропоцентризм - знаковая примета и принцип политологического мышления - важнейшее свидетельство происходящей в России общественной реформы. Антропоцентризм скорее истолковывался в контексте индивидуалистической парадигмы, казалось лучше отвечавшей реальностям современного высокомобильного общества.
Однако презумпция «человек-мера всех вещей», равно как и толкование свободы личности вне нравственных критериев, по сути сводит многообразие мотивов к гедонистическому началу.
В итоге можем наблюдать, как престижно-иерархическое покровительство и корпоративно-бюрократическая порука стали своеобразной формой общения, условием выживания личности определенного морального типа, а вместе с тем и принципами функционирования российской социальной системы. Вряд ли стагнацию нравственной жизни современной России можно напрямую связывать с современной политической мыслью. Однако интенсивное идеологическое обеспечение приоритета единственности своего «Я» было не раз санкционировано с легкой руки многих политологов, а затем в популярной форме тиражировалось СМИ.
В политологии оказалось забытым, что к многочисленным толкованиям идеи «ценность - человек» - онтологическому, гносеологическому и эстетическому - необходимо было прибавить и аксиологическое понимание: «человек - мера ценности». В контексте предмета политологии это могло бы изменить акцент абстрактного антропоцентризма на определение подлинной социальной меры
ценности человека, его целей, средств, допустимого и недопустимого в поведении
и др. :
Следующий узловой момент отечественной политологии связан с необходимостью глубокой проработки представлений о традиционном российском оощинном архетипе. А.С. Панарин справедливо указывает, что «...базовым компонентом всех традиционных культур являлся миф единой коллективной судьбы» [3, с. 133]. Аналогичное основание находим и в марксистском мифе общей классовой судьбы, связанном с утопическим сознанием. Однако оказалось iiidi.iтым то, что антиутопии, выражаясь в критике прошлого и настоящего, являясь реалистичными и даже конструктивными, в конечном счете, сами i \пи сформируются в новые утопии, закрепляясь в идеологии новых правящих пру i он (элиты или квазиэлиты), нового среднего класса, философии личного успеха мни «спасительности выборов», политических идеях глобального единства- вроде «мира без границ», «Европы от Дублина до Урала» и др.
В итоге же оказывается, что архаичный и классовый общинный архетип, представляющий интересы традиционного (аграрного) или идеократического общества, заменяется другим - иным, но опять же групповым «общинным» tipxiri ином, соединяющим узкий круг индивидов на основании их приобщения к имсокому статусному положению в обществе, уровню жизни, приверженности определенным эталонам. Солидарность, которую Э. Дюркгейм назвал механической, трансформируется в иную, которую условно можно обозначить кик «статусную». Новый архетип статусной солидарности уже прописался в учебниках политологии в качестве эталона адаптации, став нормообразующим в системе политологического мышления. Слабость философско-методологической рефлексии в трактовке архетипов культур, декларативные заявки на их равноправный диалог, в конечном счете, сохраняют старые шаблоны произвольных предпочтений или замалчиваний. На память приходят слова Гете: «Я могу вам поклясться быть искренним, но беспристрастным - никогда!». И в мой связи кратко остановимся на проблеме типологий. Типологии в любой науке и ну ювекой дисциплине - это общее дидактическое правило, необходимое для понимания. Этот метод дидактики удачно выражен у Г. Гессе: «Как и всякое понимание, оно явилось мне в облике хорошо знакомого, я его уже не раз встречал» |4,с.81|.
|
|
|
В этом контексте обратимся к интерпретации политических культур в учебной литературе. Политологии современной России казалось бы свойственно осознание, что без учета разнообразных социокультурных типов сегодня просто невозможно строить политику. Политологией был поддержан принцип продуктивности и неиерархичности культурного разнообразия. Однако ч практически в большинстве учебников и учебных пособий оказалось преобладающей устаревшая классификация Г. Алмонда, выравнивающая политические культуры по передовому образцу, где эталоном признается англоамериканская, вторая позиция отводится континентально-европейской политической культуре, аутсайдерами признаются остальные - «архаичные» -культуры.
В этой связи возникает вовсе не риторический вопросе том, возможно ли утверждение политологии как учебной дисциплины в рамках всего российского
|
|
|
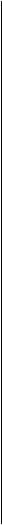

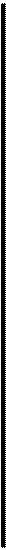 образовательного, географического, многоэтнического пространства, если предмет, обозначая передовые политические стандарты, маркирует политический опыт азиатского, кавказского, северо-российского типа, в лучШем случае как «догоняющий» - аутсайдерский. Тогда каким может быть отндшенйё к политологии у руководства вузов, находящихся вне центральной России? А ведь от субъективного подхода руководства вузов сегодня зависит выбор гуманитарных дисциплин, не вошедших в Госстандарт в качестве обязательных.
образовательного, географического, многоэтнического пространства, если предмет, обозначая передовые политические стандарты, маркирует политический опыт азиатского, кавказского, северо-российского типа, в лучШем случае как «догоняющий» - аутсайдерский. Тогда каким может быть отндшенйё к политологии у руководства вузов, находящихся вне центральной России? А ведь от субъективного подхода руководства вузов сегодня зависит выбор гуманитарных дисциплин, не вошедших в Госстандарт в качестве обязательных.
' Политологическое конструирование, отраженное в концептуальных • теоретических построениях отчетливо прослеживается в учебной литературе и крупноформатных политических исследованиях. Поэтому применительно к ним легче сформулировать позитивную программу учебно-методических и исследовательских коррекций. Ее основные пункты при первом приближении сводятся к следующему.
Первой важной задачей является анализ парадигмы общественно-политического развития (прогресса). В этом плане представления о развитии в учебной литературе четко не изложены, видимо потому, что сама эта проблема очень давнего историологического спора, отличающаяся наибольшей сложностью.
Прессинг модернизации, усиливающий чувство культурной самобытности в начале 90-х годов, поставил вопрос об идентичности отечественного опыта, ответ на который российская обществоведческая мысль искала в религиозном наследии. Увлеченность изучением религиозно-философских концепций, видимо, и способствовало проникновению в политологическую литературу идеи о «Возрождении России», специфики и самобытности отечественного опыта. Но с этой точки зрения ничего специально-российского или самобытно-русского в попытке соединения своей традиции с современностью обнаружить на уровне учебников не удается.
В то же время в начальной стадии развития отечественной политологии преобладающей стала линейная концепция прогресса, разработанная в европейской политологической традиции в разных вариантах. В результате, благодаря такой точке зрения на страницы учебников оказался возможным перенос абстрактных моделей западного общества на очередной (российский) «стандартный» объект.
При таком подходе стратегия развития оказалась вроде бы убедительна, но рна не давала ответов наряд вопросов. Например, цивилизованное многообразие в этой трактовке сводилось к перспективе политического универсализма, становление которого - лишь вопрос времени; цивилизационные особенности незападной культуры представлялись всего лишь проявлениями архаики, преобразование которой «объективная неизбежность»; конвергенция и диффузия политических элит различных стран изображались как обязательное следствие глобальной экономической интеграции.
Думается, что п перспективе заглавные темы учебников политологии должны иметь объяснения в контексте широкого диапазона интерпретаций, позволяющих понимать смысл, направление и перспективы развития политической жизни России, и России в мире.
Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с А.С. Панариньш, считающим необходимым чаще обращаться к культурологической парадигме, оценивающей
политические перемены в горизонте социокультурного опыта. Заметим, что И демистифицированная, но не утратившая от этого определенных достоинств, марксистская парадигма формационного развития также может представлять собой важную часть исследовательского инструментария политологического дискурса.
Отдельная проблема современной российской политологии - установление UIKOHOB. Сегодня эта та предметная область, которая вызывает больше вопросов, чем возможность найти ответы. Попробуем спросить любого студента-отличника на экзамене: какие законы политической жизни ему стали известны? Вряд ли сразу найдутся внятные объяснения. Оговоримся - этот вопрос может вызвать ни руднения и в отношении какой-то части преподавательской аудитории. И это удручает.
Конечно, законы, как их понимает естествознание, вообще не могут быть сформулированы в системе политических знаний; математические или физические шкомы - это неизменное, универсальное, проявляющее себя везде и всегда.
Исследование логической структуры познавательных функций законов в политической области - одна из центральных проблем и задач эпистемологии. ') i а философская сфера познавательного процесса малодоступная для усвоения студентами на первом или втором курсах вузов оказывается совершенно неизвестной курсам лекций политологии, предназначенным для инженерных факультетов. Проиллюстрируем сказанное применительно к установлению законов политической жизни на примере.
В начале 90-х годов в качестве одной из общественно-политических шкономерностей, имеющих казалось бы обязательный характер для второй половины XX века называлась: расширение личной свободы человека. Это пюуальное условие, необходимое для становления «экономического общества о| крытого типа». Установленная закономерность экстраполировалась на глобальный масштаб политической жизни, приобретая универсальный характер.
Кризис командно-административной системы в странах социалистического содружества, общественные ожидания перемен стали побудительными причинами фронтального наложения актуальной законоподобной матрицы на динамичный и сложный мировой политический процесс. При этом объяснение строилось на амбивалентности, характеризующей режимы и эпохи.
Начало XXI века не обозначало смещение акцентов в политологической трактовке феномена «расширения свободы». Однако же сама политическая реальность изменилась, востребуя изменения оценки новой эпохи как периода смены форм контроля и санкций применительно к поведению и сознанию человека: социальная инженерия и социальное проектирование - опыты клонирования человека и др.
Однако для авторов учебной политологической литературы, отмеченные изменения остались без внимания.
Столь же неоднозначно рассматриваются и некоторые другие, обозначенные и учебниках и учебных пособиях, закономерности политической жизни, такие как элитизация, глобализация и регионализация, централизация и децентрализация и др. Конечно, следует сознавать, что само политическое знание эволюционирует, а его эволюция сопричастна осознанию факта развития разнокачественных систем:

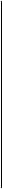

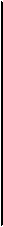
 экономической, политической, правовой, социальной, но это не освобождает политологов от установления закономерностей, их градации на общие, частные, особенные.
экономической, политической, правовой, социальной, но это не освобождает политологов от установления закономерностей, их градации на общие, частные, особенные.
В целом политологам, работающим над созданием учебников, своевременно подумать об отдельных главах, разделах, в которых проблемы закономерностей рассматривались бы отчетливо, доступно.
Существующие точки зрения по проблеме политологического объяснения,
конечно, условно можно отнести к двум основным концепциям:,
1) схема рационального объяснения, предполагающая использование
охватывающих законов; ■ : .,
2) схема объяснения через указание рационального мотива субъекга. '<-,
Надо признать, что современный российский политологический дискурс
оказался сосредоточенным на дискрепционном объяснении второго типа. Эпистемологическая проблема политологических объяснений заключается не столько в критериях, предъявляемых к инструментальному аппарату исследователей, сколько в концептуальных схемах, обладающих высокой степенью внутренней подвижности и мобильности. Поясним эту мысль на примере освещения в учебниках темы недемократического политического режима -тоталитаризма. Обратимся вначале к пособию ангора Н.А. Косолапова, вышедшему по линии программы «Обновление гуманитарного образования в России», спонсором которой является известный американский предприниматель и общественный деятель Джордж Сорос.
«Тоталитарная власть может быть в своем реале только высшей *.. Она не, может терпеть рядом с собой какие-либо локальные центры независимости, даже если последние не бросают ей прямого вызова. Само их существование для нее -. уже вызов, мириться с которым тоталитарная власть насилия органически неспособна. Вот почему все деспотии неизменно периодически разоряли производителей, либо уничтожая их физически, либо лишая их накопленного богатства, духовного авторитета, возможности свободного труда, преследуя людей и сословия - носителей знаний и мыслей» [5, с.44].
Отметим предельную жесткость и нормативность, характеризующие предлагаемую модель функционирования власти данного типа режима. В этом случае операциональной целью изложения является качественная квалификация режимов как «реакционных» либо «прогрессивных», если речь идет о демократическом режиме, а проще говоря, о режимах «нужных» и «ненужных». Использование подобного познавательного приема дает основание предположить, что объяснение такого типа скорее есть не что иное как фрагмент стратегии политического манипулирования.
Иная концептуальная трактовка власти тоталитарного типа представлена в курсе лекций «Основы политологии», подготовленном кафедрой политической социологии Московского экономико-статистического института и Центром политических исследований при Московском международном университете бизнеса и информационных технологий в 1994 году.
«На самом же деле никакой абсолютной власти, за исключением может быть форм физического насилия, в природе не существует, Ни родители, ни какая-либо военная структура, ни тоталитарная дикшура, никогда не обладали (и не
смогут обладать) такой абсолютной (безграничной) властью, с помощью которо они могли бы полностью подавить самостоятельную волю, самостоятельно движение другой стороны. И хотя, конечно, нельзя не видеть существенны различий между родителями и детьми, между командирами и подчиненными ил между диктатурой и демократией, тем не менее, даже в самых односторонне самых несбалансированных отношениях власти всегда можно обнаружить какие то элементы взаимности» [6, с.78].
Приведенный частный случай концептуально различных объяснений лиш подтверждает то, что современная теория познания в политологии обладае (иойством значительной релятивности, и это, пожалуй, характерная примет; i уманитаристики в целом. Такая теоретическая ситуация в области современно! ншетемологии сложилась, на наш взгляд, не без влияния диалогики доказывающей, что общение логик и есть идея культуры. Казалось бы, что эт< шкономерно. Однако в контексте всеобщности наукоучения как направление исследующего установление законов логического познания, образующие рациональный смысл, должен быть не диалог логик, а их обобщение и «смыкание) и «единую восходящую линию..., это - необходимая актуализация всеобщност» самой культуры» [7, с.232].
В современной теории познания гуманитаристики в целом наиболее предпочтительной и известной оказалась концепция модного ныне философе Пауля Фсйерабенда, предложившего в качестве объяснительной парадигмь шистемологический анархизм. «Наука, - пишет Фейерабенд, - представляет собой но сути анархистское предприятие: теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся на закон и порядок» [8, с.352]. К сожалению, подобный методологический подход стал в отдельных случаях авторитетной рекомендацией, разрешавшей выбирать из теорий, явлений и событий те, которые наиболее подходят для интерпретаций исследователей. В итоге нередко мы встречаемся с доминированием субъективных подходов, что особенно характерно для политического знания, в наибольшей степени зависящего m сложившейся ситуации. Яркий пример - трактовка российскими политологами конфликта между исполни тельной и представительной ветвями власти - в ходе октябрьских Событий 1993 г., когда соотношение участников дискуссии оказалось представлено 50/50.
Бесспорно то, что система представлений, чтобы имегь запас прочности, должна подразумевать не одну единственную возможную интерпретацию, но, наверное, нельзя согласиться с тем, что «...выбор того или иного прочтения (объяснения) определяется прежде всего ситуативным контекстом» |9, с.83].
! Еще один важный аспект в комплексе объективации политического знания, па наш взгляд, ассоциируется с коммуникативной природой политического языка. ')та сфера речевого образования знания в российской политологии наименее изучена в силу того, что является предметом лингвистической философий. Персональный авторский язык, авторский замысел, передаваемые через ментальность, мировоззрение, опыт, методологию в политологии, как ни в одной пауке и учебной дисциплине проецируют на читателя, слушателя определенные политические позиции. Природа языка социальна, понимание в ходе коммуникативного процесса способно устанавливать определенные приоритеты.
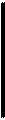

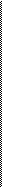

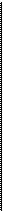
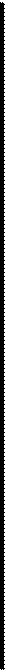 Даже интонации в политологии могут являться средствами интерпретаций, наоборот, интерпретации не допускают здесь интонационального безмсщвия,.
Даже интонации в политологии могут являться средствами интерпретаций, наоборот, интерпретации не допускают здесь интонационального безмсщвия,.
Все это влияет, во-первых, на степень достоверности знания и, во-вторы? на то, будет ли оно приниматься людьми с доверием.
Тема авторской объективности, беспристрастности предстает в политологи] сложной проблемой, решение которой в какой-то степени возможно посредствол актуализации ответственной гражданской позиции автора - исследователя преподавателя, обладающего высоким уровнем теоретической подготовки t
КуЛЬТурЫ.: -
Подводя итоги, можно сказать, что современная российская политология оказалась способной освоить и объяснить политическую жизнь пока что на уровне «малого времени», а недостаточно освоенный горизонт теорий, слабость рефлексии в области предметного и межпредметного науковедения (герменевтика, логика, эпистемология) существенно влияют на снижение ценности новой для России науки и вузовской дисциплины.
Освоению политологического знания метают и организационные проблемы: недостаточное внимание Министерства образования РФ к вопросу повышения квалификации обществоведов, особенно преподавателей периферийных вузов, высокая учебная загруженность в сочетании со значительным объемом внеаудиторной работы; отсутствие в большинстве вузов современных технических средств обучения; недостаточность обеспечения библиотек новым фондом литературы по фундаментальным теоретическим проблемам политического и смежного знания и многое другое.
К разряду организационных следует отнести вопрос о том, на каком курсе (в каком семестре) целесообразно преподавание политологии на инженерных и педагогических специальностях. Пока что этот вопрос решается вузовским руководством, что называется «с потолка», и в итоге оказывается, что в одном вузе политология преподается на первом, в другом - на втором, в третьем - на четвертом курсах!?
Здесь, на наш взгляд, необходима существенная коррекция определения места и очередности предмета среди других дисциплин. Эту коррекцию необходимо провести совместно с участием всех заинтересованных сторон: руководства Министерства образования РФ, Академии педагогических наук, Российской ассоциацией политологов, вузовским руководством.
Самоутверждению политического знания сегодня мешает и то, что к
сожалению, в СМИ, особенно в регионах, почти не формируется корпоративный
имидж политологов, который мог бы стать камертоном политической культуры.
Разумеется, изложенное далеко не исчерпывает всех проблем, требующих
осмысления сложного процесса становления политического знания^
 2015-10-14
2015-10-14 303
303







