Само собой разумеется, что у художников этого направления не возникала мысль о наличии высшей силы и высшей правды, кроме силы и правды самого человека: основанная на гуманистическом антропоцентризме, эта литература оказывалась глуха к онтологической проблематике и по духу своему была по-марксистски внерелигиозна.
Это приводило к утверждению насилия как самой естественной формы преобразования мира и самих основ мироздания. Рево-
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира
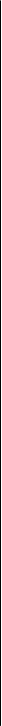
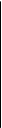
 люционное насилие оправдывалось целью: созидание нового идеального мира на основе добра и справедливости на руинах мира старого, несправедливого и жестокого, по мысли любого революционера. Соцреализм принес с собой новую этическую систему, в корне противоположную классической традиции.
люционное насилие оправдывалось целью: созидание нового идеального мира на основе добра и справедливости на руинах мира старого, несправедливого и жестокого, по мысли любого революционера. Соцреализм принес с собой новую этическую систему, в корне противоположную классической традиции.
Появление соцреализма было обусловлено определенным социокультурным феноменом: соцреализм воплощал на эстетическом уровне антисистему, затронувшую все сферы национального бытия. Он являл собой вариант химерической культуры, возникшей в 20-е годы и утвердившейся в середине 50-х в качестве официальной культуры не только в литературе, но и в других искусствах: монументальной живописи, архитектуре высотных зданий, в музыке.
|
|
|
Наиболее ярко антисистемная идеология сказалась в концепции революции, основанной на утопическом миропонимании. Бесперспективность утопической концепции мира, утверждающей право разрушения насущной реальности во имя прекрасного, но туманного и крайне отдаленного во времени завтра, проявилась и в литературе второго или даже третьего ряда, и в романах, претендующих на первые роли в истории советской литературы. Среди них — «Разгром» А. Фадеева.
Если вдуматься, все его герои — и явно положительные, такие, как Левинсон или Бакланов, и отрицательные, презираемые автором, такие, как Мечик, — ведомы в отряд, в бой, в революцию идеями, совершенно несоотносимыми с реальностью. Романтический максимализм Мечика, его парение над действительностью, постоянные поиски исключительного — в частной ли жизни, или в социальной, — приводят его к отрицанию реального бытия, вынуждают проявлять невнимание к насущному, неумение ценить его и видеть красоту. Так, герой отвергает любовь Вари во имя прекрасной незнакомки на фотографии, отвергает мир простых партизан и в итоге остается в гордом одиночестве романтика. В сущности, автор наказывает его предательством именно за это (так же, впрочем, как и за его социальную чуждость простым партизанам). Но ведь еще более губительной и абстрактной идеей ведомы Левинсон, Дубов, Бакланов, Сташинский... При этом соединение их идеи с жизнью оборачивается либо полной логической несуразностью, либо насилием над жизнью и жестокостью в отношении к ней.
|
|
|
Герои увлечены революционными идеалами, которые они вовсе не осознают как утопические. Но если революция делается от имени и для трудящегося народа, то почему приход отряда Левинсона сулит крестьянину-корейцу, у которого отбирают единственную 142
свинью, и всей его семье голодную смерть? Потому, что высшая социальная необходимость (накормить отряд и продолжить путь к своим) важнее «абстрактного гуманизма»: жизнь членов отряда значит больше, чем одного корейца (или даже всей его семьи). Да тут же арифметика! — хочется воскликнуть вслед за Раскольнико-вым, вглядываясь в утопическую антилогику: революционный отряд приносит смерть тому, во имя кого вершится революция.
Партизаны по приказу Левинсона умерщвляют раненого партизана Фролова. Его смерть неизбежна: рана смертельная, нести его с собой — невозможно, это замедлит движение отряда и может погубить всех. Оставить — попадет к японцам и примет более страшную смерть, чем от яда. Выход? Он найден Левинсоном, ибо утопическое сознание всегда склонно к логическим или псевдологическим построениям, которые как раз и отрицал Достоевский в «Преступлении и наказании», опровергая то, что жизнь одного имеет меньшую ценность, чем жизнь нескольких.
«Нужно жить и исполнять свои обязанности», — подумает Левинсон в конце романа и действительно останется жить. Зачем? Для того, чтобы далеких людей, трудящихся на току, обмолачивающих хлеб, которых он видит уже после гибели отряда, «сделать такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом» — такими же дисциплинированными, исполнительными, верными все той же идее, что горстка чудом уцелевших партизан. Из этих далеких пока людей, работающих на земле, сулящей хлеб и отдых, Левинсон соберет еще один отряд и поведет его по дорогам гражданской войны — к новому разгрому.
В повести Ю. Либединского «Неделя», одном из первых произведений советской литературы, где была заявлена подобная концепция, один из его героев, большевик Стельмахов, произносит такой монолог-исповедь: «Возненавидел я в революции раньше, чем полюбил... И потом только, после того, как меня избили за большевистскую агитацию, после того, как я в Москве, в октябре, штурмовал Кремль и расстреливал юнкеров, когда я еще в партии не был и политически ничего не понимал, тогда в минуты усталости стал мне мерещиться впереди далекий отдых, вот как царство небесное для христьянина, далекий, но непременно обещанный, если не мне, так будущим людям, сынам или внукам моим... Это-то и будет коммунизм... Какой он — не
знаю...»
тЛибединский Ю. Неделя. М., 1935. С. 71. Далее ссылки на страницы этого издания даются в тексте.
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира

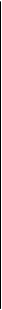



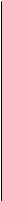 На службу прекрасному, но мифическому будущему отдают все силы герои повести. Эта идея дает переступить через естественные человеческие чувства, такие, например, как жалость к поверженному врагу, отвращение перед жестокостью, страх убийства: «Но когда голову мутит от усталости или работа плохо идет, или расстреливать нужно кого, тогда я в уме подумаю мое теплое слово — коммунизм, и ровно кто мне красным платком махнет» (С. 71).
На службу прекрасному, но мифическому будущему отдают все силы герои повести. Эта идея дает переступить через естественные человеческие чувства, такие, например, как жалость к поверженному врагу, отвращение перед жестокостью, страх убийства: «Но когда голову мутит от усталости или работа плохо идет, или расстреливать нужно кого, тогда я в уме подумаю мое теплое слово — коммунизм, и ровно кто мне красным платком махнет» (С. 71).
За этой чудовищной исповедью, которую герой и автор воспринимают как возвышенно-романтическую, стоит утопическое мироощущение в наиболее страшной и жестокой его форме. Именно оно стало идеологическим обоснованием химерической соцреали-стической конструкции.
Ее идеологической основой является мироощущение, рассмат-ривающее действительность как начало, которое может быть принесено в жертву — суть его отрицательная. Человек или же сообще-ство людей, подверженные ей, рассматривают действительность не как абсолютно самоценное начало, но лишь как средство для достижения некой цели. В этом их родство с отрицательными религиозными концепциями, склонными рассматривать материальный мир не как продолжение творящего духа и его реализацию, но как дьявольское начало, противопоставляя его началу божественному, духовному, идеальному. Но если в религиозных концепциях подобного рода вся красота мира, как бесовский соблазн, приносится в жертву во имя спасения души, то в нашем случае это происходит из-за сугубо футуристического мироощущения, господствующего в соцреализме. Его основой становятся две жизне-отрицающие идеи: во-первых, реальность воспринимается как враждебное, косное, консервативное начало, нуждающееся в коренной переделке; во-вторых, высшей ценностью является будущее, идеальное и лишенное противоречий, оправдывающее лю-бое насилие над настоящим.
|
|
|
Как происходит формирование антисистемной идеологии на эстетическом уровне?
Складывается новая концепция личности. Включенность человека в исторический процесс, утверждение его прямых контактов с «макросредой» (новый тип взаимосвязи характеров и обстоятельств, ставший основой принципа реалистической типизации в новом творческом методе) обесценивает героя, он лишается самоценности и оказывается значим постольку, поскольку способствует историческому движению вперед.
Такая девальвация человеческой жизни и индивидуальности обусловлена финалистской концепцией истории, смысл и значение которой состоит в движении к «золотому веку», локализованному в далеком будущем, но само это движение оправдывает любые жертвы — и культурные, и человеческие.
Герой осознает абсолютную ценность грядущего и весьма относительную ценность собственной личности, готов сознательно жертвовать собой. Крайнюю форму такой антигуманистической позиции воплотил (вполне сочувственно в отношении к идеям героя) А. Тарасов-Родионов в повести «Шоколад», рассказывающей о том, как чекист Зудин принимает решение пожертвовать своей жизнью, но не бросить и малой тени на мундир ЧК. Обвиненный во взяточничестве, Зудин приговорен к расстрелу. И для его товарищей, уверенных в его невиновности, но вынесших, тем не менее, смертный приговор, и для него самого это решение представляется единственно верным: лучше пожертвовать жизнью, чем дать хоть малейший повод для обывательских слухов. Обесценивание личности, характерное для прозы М. Алексеева («Большевики»), Ю. Либединского (образ Робейко в «Неделе»), А. Акулова («Записки Иванова»), А. Аросева («Страда»), связано с финалистской концепцией исторического времени. «Золотой век» виден большевикам, героям перечисленных выше произведений, во имя него они вступают в конфликт с другими людьми, трактуя их как массу обывателей, обрекают себя на социальное одиночество, жертвуют собою.
|
|
|
Принципиальная ориентация на гармоничное «завтра», на лишенный противоречий «золотой век», существование которого обесценивает «сегодня» и «вчера», становится основополагающей для социалистического реализма и определяет структуру произведения, конфликты, систему персонажей. Как перед героем Гофмана, живущим в комнате с угловым окном, мир филистеров, антиэстетический и антигармоничный, предстает базаром, миром торгующих, которому нет дела до гармонии, созданной героем-романтиком, так и в повести Ю. Либединского с характерным названием «Завтра» настоящее предстает в том же антиэстетическом ключе мира торговли и взаимного обмана.
«Я иду по Садовой. Кругом базар...
Уставшее старое лицо, бугры и морщинки, как дорожная грязь... За всю жизнь не поднялись глаза выше этих вот бус, колес, зажигалок.
Кругом базар — он сегодняшней плесенью заболотил старинную башню...
10-4063
 Социалистический реализм
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира
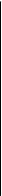
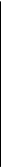
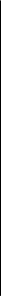

 В ворохе людей, что мечутся вокруг и друг мимо друга проносят извечные заботы свои, — слышу:
В ворохе людей, что мечутся вокруг и друг мимо друга проносят извечные заботы свои, — слышу:
— Мясцо-то почем: шешнадцать?
Старуха гладит восковой жир и могущее отдать спящую обрубленную жизнь вялое третьеводняшнее мясо.
И идет дальше, осторожно обходит лужи и приценивается, и дрожит ее лицо, как лужа, грязная лужа под ветром, а из-за прилавков жадные просят глаза:
«Купи, купи... Дай я тебя обману».
— Вчерашнего убоя, не извольте беспокоиться...
Из рук в руки ползут деньги, мятые в грубых руках, изуродованные бабочки...
И уже оттуда, из Завтра, вижу я их заботы о себе, о своем и о детях своих, чтоб были сыты, обуты...»
«Сопоставление утробных стремлений обывателя с подвижничеством большевиков служит утверждением мессианской роли последних. Писатель убежден в том, что они обязаны принести счастье тем, кто сегодня смеется «над тобой, над собой, над солнечными целями класса», — комментирует этот отрывок современный исследователь144. Добавим, что мессианство обусловлено конфликтом времен, эпох, на котором построен роман. Антиэстетическому настоящему, приметами которого являются «сегодняшняя плесень», «лицо, как лужа, грязная лужа под ветром», обман, грязные деньги, противостоит Завтра с большой буквы, с позиций которого предлагается насильственное переустройство настоящего.
Художественное время повести строится как резкое противопоставление трех временных категорий: прошлого, настоящего, будущего. Прошлое неприемлемо потому, что лишено длительности, движется как бы по кругу; поступательное движение вперед отсутствует, а потому время обесценивается, воспринимается как бесконечный и бессмысленный повтор. В «Неделе» Либединского такая временная концепция предстает как бессмысленное циклическое движение, которому обречен человек, как бы порабощенный бесконечной временной зависимостью. «Плешивые мужчины с тусклыми глазами, в старых штопаных брюках, в чиненых ботинках ходят на службу, чем-то торгуют, ремесленничают каждый поодиночке в темных клетушках. По воскресеньям женщины туго приглаживают волосы,
144 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе первой половины 20-х годов. М., 1979. С. 103-104.
надевают лиловые, желтые, синие платья, ведут детей в церковь, а вечером собираются вместе пить чай; мужчины же напиваются и тычутся лбами в стол» (С. 9). Нетрудно заметить акцент на повторяемость бытия: каждое воскресенье похоже на предшествующее, все, что было, еще много раз повторится. Время воспринимается как дурная бесконечность круга. Подобная временная концепция является характеристикой антисистемы: реальность отрицается через отрицание времени, в котором она существует.
Циклическая концепция времени, основанная на бесконечном повторе, когда история еще как бы и не начиналась, дает весомые основания рассмотреть соцреалистическую эстетику как проявление химерической культуры. Ее жизнеотрицающее мироощущение основывается на том, что прошлое оценивается лишь как предыстория, настоящее — как начало подлинной истории, знаменующее прыжок в будущее, к конечной цели исторического процесса — «золотому веку» коммунизма. Такая концепция художественного времени характерна, например, для романа «Мать» М. Горького. Отсутствие развития, движения вперед — единственная характеристика прошлого. Это подчеркивает образ остановившегося времени, заданный в экспозиции: описывая рабочую слободку, писатель акцентирует заданность определенного ритма, повтора, неизбежного и неотвратимого: каждый день из года в год гудок фабрики собирает людей, каждый вечер фабрика выбрасывает их из своих каменных недр, каждый вечер люди проводят в кабаках, каждый воскресный день тоже определен раз и навсегда. Этот неизменный повтор несет в себе не идею поступательного движения во времени, а цикл, временной круг, символизирующий не развитие, а топтание на месте: все, что будет завтра, уже было вчера, будущее не творится заново, а лишь воспроизводится. Замкнутость времени в движении по кругу и замкнутость в самом себе человека трактуется Горьким как нереализовавшаяся жизнь: «день бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле».
Однообразием дней и лет характеризуется в романе прошлое, которое измеряется не годами, а одинаково, однообразно прожитыми жизнями людей, целых поколений. «Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным ровным потоком годы и годы и вся была связана крепкими давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день». Это время как бы остановившееся, лишенное внутренней протяженности, лишенное движения — жизнь всегда была такова, в ней нельзя найти временных отметок, чтобы измерить протяженность времени.
10*
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира
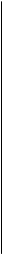
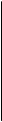


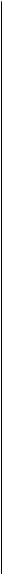 Такова экспозиция романа. Дальнейшее развитие сюжета ведет к разрушению исходной ситуации и обоснованию возможности и необходимости иного бытия, воплощением которого становится образ Павла Власова — сознательного, грамотного революционера. С этого момента и начинается истинная история, истинное течение времени. Оно представляет ценность постольку, поскольку ведет к цели. Как не вспомнить здесь комментарий С. С. Аверинцева к трактату Блаженного Авустина «О граде Божием», где сталкиваются две временные концепции: циклическая, характерная для античной историографии, и векторная, христианская, финалистская: «по кругу человека водит бес; устрояемая Богом «священная история» идет по прямой линии. Она идет так потому, что у нее есть цель»145.
Такова экспозиция романа. Дальнейшее развитие сюжета ведет к разрушению исходной ситуации и обоснованию возможности и необходимости иного бытия, воплощением которого становится образ Павла Власова — сознательного, грамотного революционера. С этого момента и начинается истинная история, истинное течение времени. Оно представляет ценность постольку, поскольку ведет к цели. Как не вспомнить здесь комментарий С. С. Аверинцева к трактату Блаженного Авустина «О граде Божием», где сталкиваются две временные концепции: циклическая, характерная для античной историографии, и векторная, христианская, финалистская: «по кругу человека водит бес; устрояемая Богом «священная история» идет по прямой линии. Она идет так потому, что у нее есть цель»145.
Векторная и циклическая концепции времен, взаимоисключающие и исконно противостоящие друг другу, не раз сталкивались на протяжении человеческой истории. Так было, например, и в период раннего средневековья, когда циклические представления о времени, характерные для античности, столкнулись с новой, векторной концепцией времени, свойственной и современному сознанию. Размышляя об античных взглядах на категорию времени, А. Ф. Лосев пишет: «Человек, его история все время трактовались как находящиеся в движении, но это движение всегда возвращалось к исходной точке. Таким образом, вся человеческая жизнь как бы топталась на месте»146. С. С. Аверинцев, говоря о столкновении векторной и циклической концепций времени, приводит характерное место из трактата Августина «О граде Божием»: «Положим, примера ради, что как в этом круге времени философ Платон говорил перед учениками в городе Афинах и в той школе, что зовется Академия, — так и снова по прошествии весьма протяженных, но твердо отмеренных промежутков во множестве кругов времен будут повторяться неисчислимые разы этот же самый Платон, этот же город, эта же школа, эти же ученики. Да не будет, говорю, чтобы мы тому поверили!.. По кругу блуждают нечестивцы; не потому, что по кругу, как полагают они, будет возвращаться их жизнь, но потому, что таков путь заблуждения их, сиречь ложное учение»147.
145 Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении ран
него средневековья (общие замечания)//Античность и Византия. М., 1975. С. 271.
146 Лосев А. Ф. Критические замечания к диалогу «Тимей»//Платон. Соч.: В 3 т.
М., 1971. Т. 3.4.1. С. 660.
147 Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении ран
него средневековья (общие замечания)//Античность и Византия. С. 271.
В высказывании средневекового философа парадоксально заострена мысль о временном цикле, где идея возвращения будущего к прошлому доведена до абсурда: повторение того же самого Платона, того же города, той же школы немыслимо с точки зрения современного человека точно так же, как и с точки зрения Августина: доктрина о вечном возврате неприемлема для нового времени. Круг времени подразумевает бесцельное и бесконечное блуждание.
Кроме того, по мысли М. М. Бахтина, объективно «цикличность является особенностью отрицательною, ограничивающей силу и идеологическую продуктивность... времени. Печать цикличности и, следовательно, циклической повторимости лежит на всех событиях этого времени. Его направленность вперед ограничена циклом. Поэтому и рост не становится здесь подлинным становлением»148.
Эта ссылка вызвана попыткой найти культурно-исторические корни восприятия того или иного типа художественного времени, найти причины его негативной или позитивной окрашенности для современного сознания. На возможность их поисков указывал М. М. Бахтин, стремясь сопоставить хронотоп античного романа с поэтикой романов Достоевского: «Культурные и литературные традиции (в том числе и древнейшие) сохраняются и живут не в индивидуальной субъективной памяти отдельного человека и не в какой-то коллективной «психике», но в объективных формах самой культуры (в том числе в языковых и речевых формах), и в этом смысле они межсубъективны и межиндивидуальны (следовательно, и социальны); отсюда они и приходят в произведения литературы, иногда почти вовсе минуя субъективную индивидуальную память творцов»149.
Так, минуя индивидуальную память творцов, пришли они и в литературу социалистического реализма, художественная концепция исторического времени которого предопределяет момент современности лишь как начало истинной истории, а все прошлое рассматривает как предысторию, как топтание на месте, замкнутое в круговом повторе, бесконечном и бессмысленном.
Романтизация будущего и его резкое противопоставление настоящему, создание мифа о «золотом веке» оказывается идеологе-мой социалистического реализма, которая осознавалась его теоре-
148 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 359.
149 Там же. С. 397.
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира


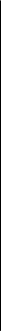




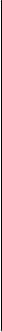
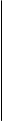
 тиками еще в 30-е годы, когда дискутировались проблемы определения нового метода. Эта идея заявлена А. В. Луначарским в статье «Социалистический реализм». Именно будущее, с точки зрения критика, является единственным достойным предметом изображения150. «Представьте себе, — говорит А. В. Луначарский, как бы обосновывая эстетические принципы «золотого века», — что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм, — а крыши-то и нет». Вы будете, конечно, реалистом, вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так, — тот реалист буржуазный, и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор, и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель»151.
тиками еще в 30-е годы, когда дискутировались проблемы определения нового метода. Эта идея заявлена А. В. Луначарским в статье «Социалистический реализм». Именно будущее, с точки зрения критика, является единственным достойным предметом изображения150. «Представьте себе, — говорит А. В. Луначарский, как бы обосновывая эстетические принципы «золотого века», — что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм, — а крыши-то и нет». Вы будете, конечно, реалистом, вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так, — тот реалист буржуазный, и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор, и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель»151.
В приведенной цитате видна агрессивность идеологии антисистемы, т.е. «системной целостности людей с негативным мироощущением», способным ложь возвести в закон творческого познания мира и дать этому эстетическое объяснение. Ложь, по мысли Л. Гумилева, предопределяет черту, роднящую все антисистемы: это «жиз-неотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. <...> При отсутствии объекта (ведь будущего пока нет. — М. Г.) ложь равна истине и можно в своих целях использовать и ту, и другую»152.
150 Эта идея настолько прочно вошла в плоть и кровь советской литературы, что
обращение к исторической теме уже само по себе вызывало подозрение, рассмат
ривалось как противоречащее эстетическим принципам социалистического реализ
ма. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы дискуссии об историческом
романе, проведенной в 30-е годы на страницах журнала «Литературный критик».
151 Луначарский А. В. Социалистический реализм//А. В. Луначарский. Литература
нового мира. М., 1982. С. 272. По свидетельству В. Я. Кирпотина, такая трактовка
художественной правды принадлежит И. В. Сталину и лишь использована А. В. Лу
начарским в статье «Социалистический реализм» (Вопросы литературы. 1989. № 2.
С. 144).
152 Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. С. 351.
Этим свойством антисистемы обуславливаются теоретические положения эстетики соцреализма. Утверждаются функции искусства: не исследование реальных конфликтов и противоречий, а создание модели идеального будущего, «великолепного дворца». Познавательная функция литературы практически утрачивается.
Так декларируются элементы нормативного искусства. Эти элементы, заложенные в программу метода, оказались своего рода «раковыми клетками» нового искусства: «Антисистема подобна популяции бактерий или инфузорий в организме: распространяясь по внутренним органам человека или животного, бациллы приводят его к смерти... и умирают в его остывающем теле»153. Именно они привели к перерождению нового реализма в нормативную нереалистическую эстетику 20—50-х годов. Приказ видеть не реальность, а проект, не то, что есть, а то, что должно быть, приводит к атрофии реалистических принципов типизации: художник исследует не типические характеры в типических обстоятельствах, а нормативные характеры, превращающиеся в примитивные социальные маски (враг, друг, коммунист, обыватель, крестьянин-середняк, кулак, «спец», вредитель и т.п.) в нормативных обстоятельствах.
Трансформируется понятие художественной правды. Писатель «в ответ на требование коммуниста: «говорите правду» — говорит «да ведь это и есть правда»; в нем может не быть контрреволюционной ненависти, он, может быть, будет делать полезное дело, высказывая печальную правду, но в ней нет анализа действительности в ее развитии, и поэтому никакого отношения к социалистическому реализму такая «правда» не имеет. С точки зрения социалистического реализма, это не правда — это ирреальность, ложь, подмена жизни мертвечиной»154.
А. В. Луначарский выстраивает целую программу творческого метода. Утверждается насилие как инструмент воздействия на художника (коммунист может и вправе что-нибудь потребовать от писателя); ложь становится предметом художественного постижения; право определять, что есть правда, а что ложь, оказывается не в сфере самореализации творческой личности, но присвоена неким абстрактным «коммунистом», тот же, кто не может прозреть правду как завтрашний день, — «зачастую мошенник и фальсифи-
153 Там же. С. 341.
154 Луначарский А. В. Социалистический реализм. С. 282.
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира
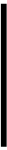
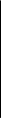




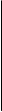

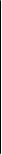 катор, и, во всяком случае, вольный или невольный контрреволюционер и вредитель». Цель искусства состоит в моделировании будущего, подминающего под себя настоящее и прошлое.
катор, и, во всяком случае, вольный или невольный контрреволюционер и вредитель». Цель искусства состоит в моделировании будущего, подминающего под себя настоящее и прошлое.
Таким образом, цель искусства трактуется в сугубо утилитарном направлении: как средство мифологизации действительности с целью ее переустройства, «воспитания нового человека», что потом, уже в 1934 г., будет заявлено в качестве важнейшей «задачи идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма»155.
Особое место в эстетике соцреализма занимает вопрос о творческой свободе художника. «Социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнородных форм, стилей, жанров», — было сказано в Уставе Союза писателей СССР. Характерно, что свобода художника локализована лишь в сфере формы — не содержания. Содержательная сфера оказывается регламентирована.
В конце 30-х годов социалистический реализм стал терять связь с реалистическими принципами типизации («День второй» И. Эрен-бурга, «Скутаревский» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян). Производственный роман, основополагающий в жанровой системе соцреализма, формирует жесткую систему персонажей (молодой человек с несомненным классовым чутьем пролетария, овладевающий не только профессиональными знаниями, но и политической грамотой; колеблющийся интеллигент, социальная неполноценность которого приводит его в лагерь классового врага; буржуй, «спец», классовый враг и т.д.).
Предопределенность персонажа и его судьбы фатальным образом выводит его на расписанные заранее круги классовой поляризации, обезличивая волю, желания, судьбу, лишая самостоятельности выбора пути, что заметили еще критики «Перевала». Их не устраивало, что примитивные схемы классовых битв перечеркивали любые общечеловеческие отношения, обесценивали их; что герой переставал быть героем, становился лишь классовым субстратом, утрачивая какие-либо черты человеческой индивидуальности. А. Лежнев, один из ведущих критиков «Перевала», анализируя систему персонажей романа Ф. Гладкова «Цемент», показывал, что у каждого героя существует ярко выраженный «социальный
155 Устав Союза писателей СССР. М., 1934. С. 5. 152
эквивалент» — интеллигентка, «спец», бузотер и т.д. «Перед нами, — писал А.Лежнев, — не спец, а «идея» спеца, идея коммунистки — интеллигентки, склочник «в себе», мать «в себе». Индивидуальное тут исчезло, осталось общее. Даша энергична, независима, пряма, решительна, но это — видовые признаки, свойственные целой категории людей, железной когорте революции»156. Критик подчеркивал, что у персонажа утрачена выразительность индивидуальных черт, «родинки», «вздернутой губки», которая есть у жены князя Андрея. Долю условности, повлекшую за собой схематическую трактовку персонажа, он объяснял свойствами стиля: это высокий стиль, а у героев трагедии нет родинок.
Литература соцреализма все более тяготела к высокому стилю, который со временем обретал черты авторитарного стиля, выражающего эпическую незыблемость социального мироустройства. Пока же, во времена «Цемента», авторитарный стиль лишь складывается.
«"Высокий стиль", — продолжает А. Лежнев, — не знает «характерных» деталей... персонажи Гладкова идеализированы — не в том смысле, что сделаны лучше, «идеальнее», чем они есть на самом деле, а в том смысле, что дана лишь их «идеальная» сущность, идея»157. Таков, по мысли критика, характер Бадьина (в котором, добавим от себя, проявилась рапповская концепция «живого человека», чем во многом и обусловлен примитивизм этого образа), такова линия взаимоотношений Глеба с Дашей. Рассматривая первую встречу Даши и Глеба после нескольких лет разлуки, когда Глеб хочет обнять и поцеловать свою жену, эмансипированная к тому времени Даша заявляет: «Что с тобой, товарищ Глеб? Не бунтуй, заспокойся», Лежнев подчеркивает, что с точки зрения реализма эта сцена невозможна. Даша, «у которой родинка на подбородке и яблочком нос», встретила бы мужа иначе, чем та «Даша, у которой родинки нет и она немыслима, как нет ее и немыслима она у Медеи или Антигоны»158. Герой теряет черты индивидуальности, превращается в функцию своей социальной роли, в очищенный классовый субстрат. Конфликты и пути их разрешения предрешены — непременно в пользу добродетели, победы индустриализации, восстановления цементного завода, доменной печи и т.д. («Цемент» Ф. Гладкова, «Доменная печь» Н. Ляшко, «Домна» П. Ярового, «Стройка» Ф. Пучкова, «У станков» А. Филиппова).
156 Лежнев А. Литературные будни. М., 1929. С. 200.
157 Там же. С. 201.
158 Там же. С. 206.
Социалистический реализм
Нейтральный стиль

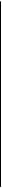 Подобные представления о роли искусства, о границах свободы творческой личности, явно несостоятельные и конъюнктурные с сегодняшней точки зрения, не всегда оценивались таким образом в 20-е годы. Напротив, они были достаточно распространены и нашли обоснование в теории социального заказа, разработанной теоретиками ЛЕФа Н. Чужаком, Б. Арватовым и др., согласно которым художник берет социальный заказ на воплощение в художественной форме партийных идеологических и политических концепций, подобно тому, как портной берет заказ на пальто.
Подобные представления о роли искусства, о границах свободы творческой личности, явно несостоятельные и конъюнктурные с сегодняшней точки зрения, не всегда оценивались таким образом в 20-е годы. Напротив, они были достаточно распространены и нашли обоснование в теории социального заказа, разработанной теоретиками ЛЕФа Н. Чужаком, Б. Арватовым и др., согласно которым художник берет социальный заказ на воплощение в художественной форме партийных идеологических и политических концепций, подобно тому, как портной берет заказ на пальто.
Нейтральный стиль
Известная мысль М. М. Бахтина о том, что далеко не все эпохи обладают своим литературным стилем, подтверждается литературной ситуацией 20-30-х годов. В самом деле, 20-е годы - в постоянном поиске тех стилевых структур, которые наиболее адекватно могут отразить и выразить время; 30-е годы — период сотворения и обретения этого стиля, его окостенения, догматизации и политической канонизации. Это «нейтральный», или «авторитарный» стиль. В 20-е годы это всего лишь одна из стилевых доминант, это еще не авторитарный стиль, а всего лишь «классическое» слово.
Именно эта стилевая тенденция, представленная в творчестве М. Горького, К. Федина, А. Фадеева, Л. Леонова, А. Толстого и др., стала основополагающей для литературы соцреализма. Она отличалась от «нового слова», включавшего в себя две стилевые доминанты — орнаментализм и сказ — прежде всего ориентацией на монологический тип повествования, при котором речь рассказчика не является предметом изображения и лишена каких-либо четких социальных ориентиров, не была социально маркирована. Нейтральность речи повествователя, строго ориентированной на нормы литературного языка, была связана с тем, что в творческие задачи художников не входило изображение характера повествователя, который чаще всего вообще не ощущался как самостоятельный образ, как, скажем, в «Деле Артамоновых» Горького или в «Разгроме» Фадеева, а если и входил в повествование на правах авторского «я», то создавался сюжетными, а не языковыми средствами. «Нейтральный стиль» полемичен в отношении «нового слова» в том смысле, что не сориентирован на изображение «чужой» речи, как сказ, или на расширение ее смыслового метафорического пространства, как орнаментализм. 154
На протяжении всех 20-х годов эти тенденции оказывались в равной степени продуктивны и, взаимодействуя, создавали мощную полифоническую структуру. Но с первой половины 30-х годов ситуация начинает постепенно меняться и «новое слово» благодаря усилиям критиков, по большей части бывших рапповцев, оказывается под подозрением, объявляется либо формализмом (орнаментализм), либо натурализмом (сказовые стилевые тенденции).
По мере того как новый реализм постепенно перерождался в нормативную эстетическую систему, нейтральный стиль становился авторитетным стилем и превращался в авторитарный стиль. Эти процессы затрагивают не только стилевой уровень; напротив, они являются отражением общей для литературы 30-х годов тенденции: догматизации социалистического реализма, его окостенения, эволюции живой эстетической системы в нормативную. Авторитарный стиль, окончательно утвердившийся уже позже, в 40-е годы, является непременной чертой этой нормативной нереалистической эстетики, называемой социалистическим реализмом 30-50-х годов.
Итак, на протяжении всех 30-х годов в литературном языке происходят существенные процессы: «новое слово» оказывается под подозрением как проявление формализма или же натурализма, а нейтральный стиль претерпевает, во многом в связи с утратой альтернативы, весьма существенную эволюцию. Исследователи языковых процессов, происходящих в литературе рассматриваемого периода, приводят высказывание К. Маркса: «Язык, лишь только он обособляется, конечно, тотчас же становится фразой». И далее добавляют: «Обособляется — от жизни общества, от исторического момента, от социальной и индивидуальной характеристики, от создателя, от адресата, от носителя стиля — человека». «Обособление есть главный признак условного, искусственного стиля»159.
Основными чертами такого стиля, сформировавшегося уже позже, во второй половине 40-х годов, является, во-первых, монологичность, при которой «доминирующее авторское мировосприятие всецело подавляет персонажей, включает их в орбиту своего мышления, видения мира», во-вторых, «отказ от автономного существования персонажа и самостоятельности его стилевой зоны, разрушение естественного контакта с устно-разговорной речью,
159 Белая Г. Л. Рождение новых стилевых форм как процесс преодоления «нейтрального» стиля//Многообразие стилей советской литературы. Вопросы типологии. М, 1978. С. 468.
Социалистический реализм
Новый реализм



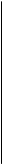
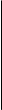
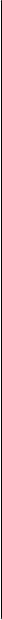


 всегда являвшейся в русской литературе одним из самых мощных источников обновления и развития стиля». В результате «живую игру слова, отражающую живую игру ума и чувств персонажей, замещает логическая упорядоченность фразы, ее нейтральная, формально-грамматическая стройность»160. Иными словами, нейтральный стиль в силу своей монологичности не допускает какого бы то ни было проникновения «чужой речи», следовательно, исключена установка и на устную речь. Эти черты нейтрального стиля проявились не только в творчестве М. Бубеннова и С.Бабаевского, В. Ажаева и В. Попова, но и К. Симонова, и И. Эренбурга, и М. Горького.
всегда являвшейся в русской литературе одним из самых мощных источников обновления и развития стиля». В результате «живую игру слова, отражающую живую игру ума и чувств персонажей, замещает логическая упорядоченность фразы, ее нейтральная, формально-грамматическая стройность»160. Иными словами, нейтральный стиль в силу своей монологичности не допускает какого бы то ни было проникновения «чужой речи», следовательно, исключена установка и на устную речь. Эти черты нейтрального стиля проявились не только в творчестве М. Бубеннова и С.Бабаевского, В. Ажаева и В. Попова, но и К. Симонова, и И. Эренбурга, и М. Горького.
Широкая распространенность в литературе 30-х годов и почти безраздельное господство в последующие периоды нейтрального стиля объясняются тем, что здесь, на эстетическом уровне, проявились важнейшие для эпохи тенденции общественной жизни. Новая советская идеология формирует для себя соцреалистичес-кую эстетику, жестко и рационалистично кодифицированную, отступление от которой уже не мыслится. Поэтому нейтральный стиль не только утверждается в литературе как единственно возможный, но и превращается в авторитарный стиль.
«Авторитарное слово, — писал М. М. Бахтин, — требует от нас признания и усвоения, оно навязывается нам независимо от степени его внутренней убедительности для нас; оно уже преднахо-дится нами соединенным с авторитетностью»161. В том-то и дело, что литература 40-50-х годов, литература социалистического реализма, литература огосударствленного типа, не могла не быть «авторитетной», «независимо от степени ее внутренней убедительности для нас»: устами В. Ажаева или В. Попова, А. Толстого или А. Фадеева вещало государство. Здесь уже неуместна игра с чужим словом или расширение смыслового пространства прозаического текста по законам метафорического поэтического языка. Здесь возможна лишь полная чеканная ясность — та ясность, которую мог дать нейтральный стиль, превратившийся в авторитарный. Это превращение углубляло дистанцию между действительностью, в повседневность которой был погружен читатель, и словом, с которым обращался к нему художник. Дистанция эта обусловлена законами существования авторитарного стиля. «Связанность слова с авторитетом, — по мысли Бахтина, — все равно признанным нами
или нет — создает специфическую выделенность, обособленность его; оно требует дистанции по отношению к себе... Авторитарное слово требует от нас безусловного признания, а вовсе не свободного овладения и ассимиляции со своим собственным словом. Поэтому оно не допускает никакой игры с его границами, игры с обрамляющим его контекстом, никаких постепенных и зыбких переходов, свободно-творческих стилизующих вариаций. Оно входит в наше сознание компактной и неразделимой массой, его нужно или целиком утвердить, или целиком отвергнуть. Оно неразрывно срослось с авторитетом — политической властью, учреждением, лицом, — оно стоит и падает вместе с ним»162.
Этими особенностями авторитарного стиля обусловлено и такое его свойство, как неспособность к взаимодействию с альтернативой. «Авторитарное слово не изображается, — оно только передается. Его инертность, смысловая завершенность и окостенелость, его внешняя чопорная обособленность, недопустимость в отношении к нему свободно стилизующего развития, — все это исключает возможность художественного изображения авторитарного слова». Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что литература социалистического реализма практически не знает жанра полифонического или диалогического романа: художественная структура произведения спроецирована не на спор, в его контексте «нет игры, разноречивых эмоций, оно не окружено взволнованной и разнозвучащей диалогической жизнью, вокруг него контекст умирает, слова засыхают»163.
Именно в силу этих особенностей авторитарный стиль вытеснил из советской литературы альтернативные стилевые тенденции и господствовал в течение всех 40—50-х годов.
Новый реализм (М. Шолохов, М. Горький, Б. Пастернак)
Альтернативой соцреализму оказался новый реализм. При том, что соцреализм и новый реализм имели общие предпосылки возникновения (кризис реализма на рубеже веков и трансформации традиционных реалистических принципов), меньшая норматив-
160Там же. С. 469-469.
161 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 155.
1б2Тамже. С. 155-156. 163Там же. С. 156.
Социалистический реализм
Новый реализм


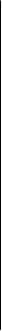 ность нового реализма позволила ему предложить общественному сознанию не антигуманистические концепции будущего, а исследование исторической действительности XX в. и мироощущение личности, погруженной в нее. Подобная проблематика естественно выдвинула во главу реалистической жанровой системы роман, жанровое содержание которого наиболее адекватно исследованию отношений личности и истории. Всплеск романного сознания 30-х годов сопоставим только лишь с 60-ми годами XIX столетия. При том, что внутри этой эстетики рождались творческие концепции, принципиально противоположные друг другу, а их авторы опирались на общие — реалистические — художественные принципы.
ность нового реализма позволила ему предложить общественному сознанию не антигуманистические концепции будущего, а исследование исторической действительности XX в. и мироощущение личности, погруженной в нее. Подобная проблематика естественно выдвинула во главу реалистической жанровой системы роман, жанровое содержание которого наиболее адекватно исследованию отношений личности и истории. Всплеск романного сознания 30-х годов сопоставим только лишь с 60-ми годами XIX столетия. При том, что внутри этой эстетики рождались творческие концепции, принципиально противоположные друг другу, а их авторы опирались на общие — реалистические — художественные принципы.
Против революционной схемы, которую предлагает нормативизм, выступили многие советские писатели, обратившиеся к теме гражданской войны, и среди них — Шолохов, автор «Тихого Дона». Этот роман — одно из самых ярких воплощений реалистической эстетики, противостоящей нормативизму. Если вдуматься в конфликт, то он очень напоминает проблематику романов Достоевского, которая формируется столкновением идеи и живой жизни. Живая жизнь шолоховских героев с их обыденными повседневными делами (хлебопашеством, военными казачьими сборами, подновлением куреня, свадьбами, сенокосами, ночными рыбалками), описанием которой открывается роман, когда между Григорием Мелеховым и Аксиньей впервые пробежала искра страсти, оказывается нарушенной грубым вторжением исторических катаклизмов. Любимые герои Шолохова — Григорий и Петро Мелеховы, Кошевой, Степан Астахов — втянуты в битвы, смысл которых вовсе не ясен им, как, скажем, он совершенно открыт перед взором Левинсона. Но мир,который знаком им, намного богаче, ибо они не собираются втискивать его в жесткие схемы классовой борьбы или других форм рационального расчета с действительностью. Гражданская война понимается Шолоховым как искажение естественных форм бытия героями вроде Штокмана или Бунчука, видящих мир как арену классовых битв, и все трагические последствия подобного искажения ложатся на плечи самых простых людей. Они и оказываются первыми жертвами такой войны.
Сюжетом романа (если можно говорить о сквозном сюжете в четырехтомной эпопее) оказывается частная судьба Григория Мелехова и история его любви к Аксинье. Это история трагической любви и история выгоревшей, испепеленной жизни. Почему не состоялась любовь и почему испепелилась жизнь? Шолохов как
реалист ищет ответы на эти вопросы в той исторической ситуации, втянутыми в которую герои оказались против своей воли.
Связь Григория и Аксиньи, вражда со Степаном, женитьба Григория на Наталье — все эти перипетии частных отношений являются своего рода экспозицией к историческому сюжету романа. Завязкой можно считать первое убийство, то самое, что было совершено Григорием в пылу конной сабельной атаки. С этого момента нескончаемая череда смертей проходит через роман. Раскроив надвое череп австрийского солдата, Григорий, добрый и чуткий человек, приходит в непримиримое противоречие с самим собой, не в силах избавиться от страшного наваждения, не может обрести точку опоры в самом себе. Но страшнее даже другое. Убив, он как бы начинает цепную реакцию бесконечных смертей, которые сеет сам и свидетелем которых является. В конце романа один из эпизодических персонажей скажет об этом жуткие в своей простоте слова: «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легше, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию». Его слова Шолохов подтверждает кольцевой композицией романного сюжета: долгая пляска смерти, начатая убийством австрийского солдата, завершается гибелью самого дорогого Григорию человека — Аксиньи. Такова логика войны и того чудовищного мира, в котором довелось жить героям Шолохова: взмах шашки, за который казнил себя Григорий, отзовется нелепой пулей, доставшейся Аксинье. И то черное небо, и ослепительно сияющий черный диск солнца, который видит над собой Григорий Мелехов, похоронив Аксинью, является знаком страшной цены, которую придется платить народу за развязанную штокманами и бунчуками войну всех против всех.
Принципы реалистической типизации, присущие новому реализму, обусловили один из его «идеологических центров»: исследование отношений между человеком и историческим временем. Их трактовки могли быть самыми полярными.
Русская литература знает два произведения, находящиеся друг с другом в неразрешимом противоречии. Их разделяет три десятилетия. Эти книги предлагают принципиально разные трактовки русской судьбы, как она сложилась в нашем столетии, а в сознании читателя приходят в неразрешимое противоречие. Это эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина», озданная в 1930-е годы, и роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», завершенный к началу 1960-х годов и находящийся в отношении непримиримой полемики к четырехтомной эпопее Горького. Воспринятые обособленно

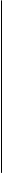 Социалистический реализм
Социалистический реализм
Новый реализм

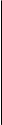
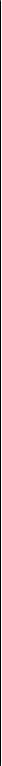
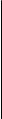 друг от друга, они утрачивают многие грани своего содержания. Между ними складываются диалогические отношения, своего рода спор длиною в век. В центре обоих произведений — конфликт личности и истории.
друг от друга, они утрачивают многие грани своего содержания. Между ними складываются диалогические отношения, своего рода спор длиною в век. В центре обоих произведений — конфликт личности и истории.
М. Горький намечает два возможных типа взаимоотношений личности и исторического времени: контакт с ним и отчуждение от него. Эти полярные позиции, представленные в творчестве писателя, как бы формируют между собой поле огромного идеологического напряжения. С одной стороны, мы видим осмысление жизни под углом позитивного, созидающего сознания (Алеша Пешков в автобиографической трилогии, повествователь в цикле рассказов «По Руси»). С другой стороны, это сознание негативное, как бы разрушающее реальность («Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина»). В последнем случае герой отчужден от времени, враждебен ему, в первом — преодолевает отчуждение. Писатель в своем творчестве создал два полюса, два гигантских разнозаря-женных магнита, между которыми и формируется горьковская концепция человеческой личности.
В «Жизни Клима Самгина» присутствуют два предмета изображения: историческое время и негативное, отрицающее сознание, стремящееся отгородиться от его тлетворных влияний. Таким образом, в романе создается глубокое эстетическое противоречие: между историческим временем и временем героя.
В самом деле, перед нами сорок лет русской истории, вместившей в себя несколько эпох, две революции, Ходынское поле, взлет русского капитализма, 9 января... Хроникальное изображение времени, непрерывность его течения, отсутствие ретроспекций есть способ передать с максимальной полнотой его неподвластность воле человека, который хотел бы замедлить его ход, остаться вне его течения. Противоречие между объективным характером исторического времени и его субъективным восприятием Климом Сам-гиным определяет конфликт романа: между героем и его эпохой. В художественном мире Горького взаимодействие частного и исторического времени является общеобязательным и непременным. Герой горьковского романа, по словам С. Бочарова, «подвергается воздействию исторического процесса в целом, несравненно более широкому, чем воздействия среды. В этом «рандеву» с историей человек выступает, прежде всего, не как составная часть класса, а как личность, имеющая непосредственный контакт с ведущей истри-ческой закономерностью. История больше не позволяет замкнуться в рамках среды, что ослабляло бы субъективную ответственность 160
человека, властно выволакивает человека из этих рамок, заставляет встать к себе, так сказать, в личное отношение»64.
Традиционные пропорции взаимоотношений человека и времени в горьковском романе смещены. Теперь любому человеку, даже такому, как Самгин, тесно в узких рамках среды, и он выходит один на один со своей эпохой, хочет он того или нет. Поэтому в сознании героя возникает неразрешимый внутренний конфликт: с одной стороны, он желает уклониться от прямого контакта, с другой стороны, ощущает невозможность сделать это. Неведомая до сей поры сила втягивает героя в свой оборот: «События, точно льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требовали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое участие в ходе их». Физическое, действенное участие акцентирует реальную и безграничную власть этой силы, которая против желания заставляет его вступать в контакт с собой. Иногда эта сила выступает как нечто иррациональное, чуть ли не как рок, довлеющий над Самгиным: «Всю жизнь ему мешала найти себя эта проклятая, фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя думать о ней, но не позволяя встать над ней человеком, свободным от ее насилий». Самгину доступно понять и очень точно охарактеризовать причины внутренней драмы, постигшей его: «Истина с теми, — рассуждает он, — кто утверждает, что действительность обезличивает человека, насилует его. Есть что-то... недопустимое в моей связи с действительностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу... вернее: хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний?».
В противоположность Самгину Алеша Пешков, герой автобиографической трилогии, распахнут навстречу времени, вбирает его в себя. Он, как и Самгин, оказывается в центре произведения, действительность предстает как достояние его субъективного психологического опыта, ибо это единственный герой, раскрытый изнутри. То, что Самгин и Пешков заняли в романной структуре центральное место, говорит вовсе не об их одинаковой ценности для автора, но о равенстве требований, предъявляемых писателем к любому герою. Суть в том, что Горький каждому без изъятия доверил в руки контакт с эпохой, лишил героя возможности «жить все в бедных мыслях про самого себя, как цыпленок в
164 Бочаров С. Г. Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе и творчество Горького//Социалистический реализм и классическое наследие (проблема характера). М., 1960. С. 156.
11 - 4063
Социалистический реализм
Новый реализм

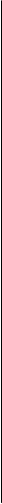


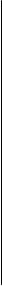
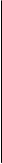 скорлупе», как осмысляет свою жизнь Матвей Кожемякин. В этом — доверие к человеку, но и огромный груз исторической ответственности за все, происходящее в мире, ибо утверждается взаимосвязь личности со всем, происходящим в мире.
скорлупе», как осмысляет свою жизнь Матвей Кожемякин. В этом — доверие к человеку, но и огромный груз исторической ответственности за все, происходящее в мире, ибо утверждается взаимосвязь личности со всем, происходящим в мире.
Отчужденный и неотчужденный от исторического времени человек — вот два полюса, два разнозаряженных магнита, созданных Горьким. С одной стороны, антигерои, люди, которые не смогли понять и принять свое время, люди, заблудившиеся на перекрестках русской истории XX в.: Клим Самгин, Матвей Кожемякин, последнее, вырождающееся поколение Артамоновых. С другой стороны — герои, способные к интенсивному внутреннему росту, к активному взаимодействию со своей эпохой. Это Павел Власов и Пелагея Ниловна Власова («Мать»), это герой автобиографической трилогии. Между двумя этими полюсами и аккумулируется нравственно-этический и философский заряд концепции личности, предложенной литературе Горьким. Во многом именно эти два полюса как бы создают пространство, куда включены очень многие явления литературно-художественного сознания послегорьков-ского времени. Горький обозначил предельно широкие координаты художественного пространства нового реализма. Между этими двумя полюсами, но часто в очень напряженной полемике с Горьким, продолжалось его развитие.
Чтобы понять масштаб новых требований, предъявленных человеку Горьким, нужно задаться простым вопросом: чем так уж плох Самгин? Почему Горький сделал его антигероем? Человек, не способный переступить через нормы чести, живущий напряженной духовной жизнью, для которого более реальной и значимой является жизнь внутренняя, нежели внешняя; человек, воплощающий в себе традиционные взгляды и ценностные ориентиры русского интеллигента, презирающий быт и тратящий большую часть денег на книги. Почему же он, более всего ценящий свою внутреннюю независимость и суверенность, удостаивается лишь авторской антипатии и даже презрения?
Поставив частную человеческую судьбу в контекст исторического времени, настаивая на непременности этой связи, новый реализм изменил традиционную систему ценностей. Ценной мыслится уже не личность, не ее право внутренней жизни и тайной свободы, на чем настаивал еще Пушкин, но жизнь общественная, а ценность личности ставится в прямую зависимость от ее участия в жизни социальной.
Горький осмыслил взаимосвязь характера и истории как фатальную и увидел в ней начало, возвышающее человека, способного на контакт с ведущей исторической закономерностью. Неспособность личности к такому контакту или нежелание оного он воспринимал как начало негативное и отказал такому герою в праве на сочувствие и уважение.
Жесткая обусловленность характера героя и его судьбы историческим временем часто у Горького предстает как почти мистическая и непреодолимая человеческой волей зависимость. Герой не в силах ее осознать и не в силах ее преодолеть. Он находится как бы в плену у истории, подчинен социальным закономерностям и раздавлен ими. Начала жизни, которые невозможно объяснить рационально, некие мистические связи и зависимости людских судеб от истории становятся в эпосе Горького одним из самых заметных мотивов. В романе «Дело Артамоновых» иррациональная мотивировка судьбы семейного клана русских промышленников сочетается с мотивировкой конкретно-исторического характера, они как бы дополняют друг друга.
Сюжет романа охватывает период с начала 1860-х годов по 1917 г. В центре его — судьба трех поколений династии русских промышленников Артамоновых. Основоположник «дела», бывший крепостной Илья Артамонов, человек невиданной энергии и целеустремленности, передает дела своим сыновьям, ведущим их уже по инерции, которая к третьему поколению вовсе иссякает. Горький, имея возможность наблюдать взлет русского капитализма, интересуясь судьбами людей, сумевших в ситуации «воли» (реформы 1860-х годов) реализовать энергию, идущую от самых глубинных корней народной жизни, замечал и не мог объяснить странное вырождение последующих поколений династии. В романе он стремится показать историю семьи, где закон вырождения действовал особенно безжалостно, с почти мистической непреложностью. Прообразами Артамоновых можно назвать таких представителей русского купечества и предпринимательства, как Бриллиантовы, Сиротки-ны, Журавлевы, Мешковы, Поляковы и, конечно же, Морозовы. Страшная судьба С. Морозова, последнего, третьего владельца знаменитых мануфактур, носящего имя своего деда, основоположника династии, особенно занимала Горького. В нем он видел как раз те противоречия и разрывы, что так свойственны русскому человеку, которые были подчеркнуты исчерпанностью — династии ли? Самого «дела»? Или класса буржуазии? С. Морозов жестоко подав-
11*
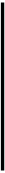 Социалистический реализм
Социалистический реализм
Новый реализм
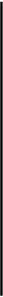
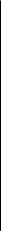

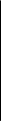
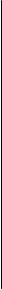

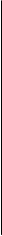
 лял выступления рабочих мануфактуры — и строил бесплатные дома и больницы. Боялся революции — и помогал деньгами революционерам. Даже огромная внутренняя сила не помогла ему справиться с роком: переживая жесточайший внутренний кризис, он ушел из жизни: нарисовал на груди химическим карандашом сердце и выстрелил — целых два раза.
лял выступления рабочих мануфактуры — и строил бесплатные дома и больницы. Боялся революции — и помогал деньгами революционерам. Даже огромная внутренняя сила не помогла ему справиться с роком: переживая жесточайший внутренний кризис, он ушел из жизни: нарисовал на груди химическим карандашом сердце и выстрелил — целых два раза.
Эта судьба всерьез волновала Горького. «Ведь этот самый Савва Морозов, — писал он, — отец его пришел в лаптях... В 62—63 году пришли эти люди с сильным соком и взялись за дело, начали строить фабрики, заводы, судоходство развивать. Судоходство на Волге создано с такой быстротой, которой американцы, умеющие работать очень и очень хорошо, только дивляются. А кто это создал? Сироткины, Журавлевы. Это все мужичье...
И вот приходит такой человек и начинает работать, заставляет детей своих работать... и на это дело, как видно, тратит свои лучшие соки, и как производителю, как отцу ему чего-то не хватает. Дальнейшая стадия — его сын работает уже по инерции, без того пафоса, без той поэзии труда, без той страсти, с которой работал его отец... В третьем поколении люди начинают вырождаться...
Это, вероятно, происходит потому, что дед вложил всю свою силу в это дело, на сына не хватило, а у сына — на внука — тоже не хватило энергии».
Это почти иррациоальное, мистическое объяснение Горький дополняет видением конкретно-исторической обусловленности процесса: исчерпанностью творческого потенциала русского капитализма за пятьдесят пять лет пути от Ильи Артамонова-старшего до его внуков, Ильи и Якова. Но за этой проблематикой сугубо социального характера Горький видит и проблему общечеловеческого плана.
Человек — хозяин дела, его творец; в деле, в труде раскрываются его творческие потенции. И судьба Ильи Артамонова-старшего подтверждает это.
Неукротимая энергия Ильи дает свои результаты — появляется первый корпус фабрики. Это человек, не боящийся работы, не утративший еще связь с рабочими, с теми людьми, трудом которых создается дело. И в большом застолье, которое он устраивает для рабочих и в котором сам принимает самое активное участие, еще ничего не предвещает беды. Люди сидят за огромными, специально сколоченными для этой цели столами, соединенные могучей волей хозяина дела, и древний ткач Борис Морозов обращается К Артамонову: «Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить.
Ты — хозяин, ты дело любишь, а оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук, катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница, побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...»
Но век его оказался короток: дело, вызванное к жизни неукротимой энергией Артамонова-старшего, как бы выходит из-под контроля, начинает жить собственной жизнью, подчиняя себе не только рабочих, но и хозяев, своих творцов. Дело в самом прямом смысле убивает Артамонова. После застолья человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли на Оку, куда причалил на барке заказанный для второго корпуса фабрики паровой котел. Рабочие благополучно сгрузили на берег «красное тупое чудовище, похожее на безголового быка». Когда рабочие везут котел по доскам, положенным на песок, горбуну Никите, сыну Артамонова, кажется, «что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно перед веселою силою людей». Горький использует прием олицетворения, нагнетает антиэстетические детали, показывая разрушительную силу дела, воплощенную в этом красном неповоротливом чудище, похожем на тушу освежеванного быка: «Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и неспеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой, — Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью». Когда рабочие попытались поднять его, «котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые». «Пожалуй, — жила лопнула», — говорит он Никите.
 2013-12-28
2013-12-28 750
750








