РАЗДЕЛ VIII

|
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ [533]
В два столетия — XIV-е и XV-e незначительное Московское удельное княжество выросло в Московское государство, объединившее всю Великороссию[534]. Ближние и дальние соседи увидали в Московии сильное государство, победоносно справившееся с татарскими царствами, перекинувшее свою власть в Сибирь. Политические деятели Западной Европы стали считаться с новой силой. Но внешнее политическое значение было куплено дорогой ценой неимоверного напряжения народных сил в борьбе за свою самостоятельность против напиравших со всех сторон соседей, и напряжение это нарушило внутреннюю крепость и равновесие народных сил и средств. В XVII-й век Московское государство пере-:одит в состоянии глубокой внутренней Смуты.
Причины Смуты коренились в самом строе Московского государства XVI века. В их основе лежало противоречие между целями,:оторые должно было преследовать правительство, и средствами, какими оно располагало. В стране, слабо развитой в экономическом отношении и редко населенной, создать достаточную крепость государственной самообороны при сложных международных отношениях было возможно только с большим трудом, и притом сосредоточивая в распоряжении правительства все средства и силы народные. Оно и борется в XVI веке за установление безусловной власти, сокрушая все частные и местные авторитеты, какими отчасти оставались в своих вотчинах потомки удельных князей, бояре-княжата. Привилегии, какими пользовалась эта аристократия, претендовавшая на первую роль в управлении и в царской? думе, на подчинение себе в деле суда, расправы и военной службы населения своих вотчин, были сломлены бурей опричнины Грозного. Уничтожая в боярстве старое и привычное орудие своей власти, Московское правительство одновременно создает взамен новую администрацию и новое войско, администрацию приказов и войско служилых людей, детей боярских и дворян. В этом классе, вершину которого составила новая придворная знать, сильная не родовитостью, а высоким служебным положением и царскою милостью, — ищет опоры царская власть. Этот класс она стремится обеспечить поместьями и крепостным крестьянским трудом, постепенно сводя на нет крестьянскую свободу. Но интересы помещиков часто противоречили интересам казны: делясь со служилыми людьми доходом с крестьянского труда, она рисковала потерять источник своей финансовой системы при разорении крестьян и обращении их в холопов, податей не плативших[535]. К тому же потребность колонизировать Поволжье и южные области заставляла правительство покровительствовать переселениям земледельцев на новые земли, наперекор выгоде служилых землевладельцев. Переселенческое движение вызвало сильный отлив населения из центральных областей, - что довело их до тяжелого сельскохозяйственного кризиса[536].
|
|
|
|
|
|
Сложный исторический процесс вызвал глубокое брожение и в сознании русского общества. Столкновение противоположных интересов, усиленное кроваво-жестокими действиями Грозного, привело к двум главным последствиям: падению правительственного авторитета, когда царь Иван «смяяте люди вся» тем, что «всю землю яко секирою на полы рассече» (на опричнину и земщину), и к сознанию каждым общественным классом своих особых интересов. Совпадение общего социально-политического кризиса с прекращением династии было последним толчком к Смуте. Началась она сверху, борьбою партий за престол. Выдвинутый личными соперниками Годунова, первый Лжедмитрий победил при поддержке низшего слоя населения, недовольного московской политикой, и родовитой знати, охотно изменившей опричнику-Годунову, увлекая и служилых людей, еще не сплотившихся в особую политическую партию. Партия княжеской аристократии свергла Самозванца и захватила власть при Шуйском, но против нее подымаются другие общественные группы: закрепощаемое холопство и крестьянство, за которым стоит плоть от плоти его — казачество, под начальством Ивана Болотникова, и враги бояр, служилые люди, с Прокопием Ляпуновым[537]. Разыгравшаяся социальная борьба довела государство до полного разрушения и до вмешательства соседей. Международные осложнения ставят перед государством новую задачу: преодолеть внутреннюю смуту и организовать национальную самооборону. Подымаются на защиту государственной самостоятельности и внутреннего порядка средние классы, служилые торговые люди по почину Минина и под руководством Минина и Пожарского[538] счастливо решают свою сложную историческую задачу.
2. ПЕРИОДЫ СМУТЫ [539]
В развитии московской Смуты ясно различаются три периода. Первый может быть назван династическим, второй — социальным и третий — национальным. Первый — обнимает собою время борьбы за московский престол между различными претендентами до царя Василия Шуйского включительно. Второй период характеризуется междоусобною борьбою общественных классов и вмешательством в эту борьбу иноземных правительств, на долю которых и достается успех в борьбе. Наконец, третий период Смуты обнимает собою время борьбы московских людей с иноземным господством до создания национального правительства с М. Ф. Романовым во главе. Главнейшие моменты в ходе Смуты следовали в такой постепенности: началась открытая Смута рядом боярских дворцовых интриг, направленных на то, чтобы захватить влияние во дворце, власть и впоследствии престол. Эти интриги открылись тотчас по смерти Грозного и разрешились регентством, а затем и воцарением Б. Годунова. Главным орудием боярской борьбы, решившим дело
бесповоротно в пользу Бориса, послужил земский собор, возведший семью Годуновых на царскую степень[540]. Тогда оппозиционные элементы из дворца перенесли смуту в войско и, выдвинув Самозванца, сделали орудием борьбы войсковые массы. Эти массы, служа послушно тем своим вождям, которым они верили, сражались за Годуновых и за Димитрия[541], шли против Димитрия за Шуйского, словом, принимали пассивное участие в борьбе за престол, доставив последнее торжество в ней Шуйскому. Однако ряд политических движений не прошел бесследно для воинских людей. Участвуя в походах и переворотах в качестве силы, решающей дело, они поняли свое значение в стране и научились пользоваться воинскою организациею для достижения своих общественных стремлений. В движении Болотникова обнаружилось, во-первых, что почин в созданий социального движения принадлежит низшим слоям войска — украинному казачеству[542] и, во-вторых, что различие общественных интересов и стремлений разбило войско на враждебные сословные круги. Высшие из них стали за Шуйского как за главу существовавшего общественного порядка; низшие примкнули к Тушинскому вору, превратив его из династического претендента в вожака определенных общественных групп. Междоусобная борьба окончилась победою стороны Шуйского благодаря вмешательству торгово-промышленного севера, который поддержал старый порядок в лице царя Василия[543]. Однако торжество Шуйского было непрочно. Он пал вследствие осложнений, созданных польским и шведским вмешательством, и взамен его слабого правительства создалась польская военная диктатура. Она не прекратила общественного междоусобия и не поддержала государственного единства, так как сама была слаба и держалась лишь оккупацией столицы. Но она подготовила важный перелом в общественном сознании. Против иноземного господства спешили соединиться в одном ополчении все народные группы, до тех пор взаимно враждовавшие. Временное правительство, созданное в ополчении вокруг Ляпунова[544], собрало в себе представителей этих враждебных групп, но оно скоро погибло вследствие их слепой вражды. Общий патриотический порыв не 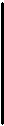 мог, таким образом, погасить народные страсти и примирить обостренную рознь. Попытка создать общее земское правительство не удалась, и страна, не желавшая польской власти, не имела в сущности никакой. Тогда, в 1611 году, сложилась, наконец, программа действий, именем патриарха призывавшая к единению не всех вообще русских людей, а только консервативные слои населения: землевладельческий служилый класс и торгово-промышленный тяглый. Их силами создано было нижегородское ополчение, освобождена Москва и побеждены казаки. Правительство 1613 года и земские соборы времени царя Михаила стали органами этих восторжествовавших в борьбе средних слоев московского общества[545]. Политика царя Михаила была поэтому одинаково холодна к интересам и старинной родовой знати, и крепостной рабочей массы: она руководилась интересами общественной середины, желавшей по-своему определить и укрепить порядок в освобожденной от поляков стране.
мог, таким образом, погасить народные страсти и примирить обостренную рознь. Попытка создать общее земское правительство не удалась, и страна, не желавшая польской власти, не имела в сущности никакой. Тогда, в 1611 году, сложилась, наконец, программа действий, именем патриарха призывавшая к единению не всех вообще русских людей, а только консервативные слои населения: землевладельческий служилый класс и торгово-промышленный тяглый. Их силами создано было нижегородское ополчение, освобождена Москва и побеждены казаки. Правительство 1613 года и земские соборы времени царя Михаила стали органами этих восторжествовавших в борьбе средних слоев московского общества[545]. Политика царя Михаила была поэтому одинаково холодна к интересам и старинной родовой знати, и крепостной рабочей массы: она руководилась интересами общественной середины, желавшей по-своему определить и укрепить порядок в освобожденной от поляков стране.
|
|
|
|
|
|
3. БОРИС ГОДУНОВ [546]
Власть перешла в руки Бориса как раз в ту минуту, когда московское правительство сознало силу общественного кризиса, тяготевшего над страною, и поняло необходимость с ним бороться.
Мягкий, любезный, склонный к привету и ласке в личном обращении, «светлодушный», по современному определению, Борис был чуток к добру и злу, к правде и лжи; он не любил насильников и взяточников, как не любил пьяниц и развратников. Он отличался личной щедростью и «нищелюбием» и охотно приходил на помощь бедным и обездоленным. Современники, все в один голос, говорят нам о таких свойствах Бориса. Из их отзывов видно, что, воспитанный в среде опричников, Борис ничем не был на них похож и из пресловутого «двора» Грозного с его оргиями, развратом и кровавою «жестокостию» вынес только отвращение к нему и сознание его вреда. Соединяя с большим умом административный талант и житейскую хитрость, Борис сумел внести в жизнь дворца и в правительственную практику совершенно иной тон «новые приемы. Пристальное знакомство с документами той эпохи обнаруживает большую разницу в этом отношении между временем Грозного и временем Бориса. При Борисе московский дворец стал трезвым и целомудренным, тихим и добрым, правительство — спокойным и негневливым. Вместо обычных от царя Ивана Васильевича «грозы» и «казни», от царя Федора и «доброго правителя» Бориса народ видел «правосудие» и «строение». Но от «светлодушия» и доброты Бориса было бы ошибочно заключать к его правительственной слабости. Власть он держал твердою рукою и умел показать ее не хуже Грозного, когда видел в этом надобность. Только Грозный не умел обходиться без плахи и веревки, а Борис никогда не торопился с ними. На интригу отвечал он не кровью, а ссылками; казнил по сыску и суду; а «государевы опалы», постигавшие московских людей без суда и сыска, при Борисе не сопровождались явным кровопролитием. Современники, не принадлежавшие к числу друзей Бориса, ставили ему в вину то, что он любил доносы и поощрял их наградами, а людей опальных приказывал их приставам[547] «изводить» — убивать тайно в ссылке. Но доносы составляли в московском быту того времени не личную слабость Годунова, а печальный обычай, заменявший собою позднейшую «агентуру». А тайные казни (если захотим в них верить) были весьма загадочными и редкими, можно сказать, единичными случаями. Сила правительства Бориса заключалась не в терроре, которого при Борисе вовсе не было, а в других свойствах, власти; она действовала технически умело и этим приобрела популярность. Борис в успокоении государства, после опричнины и несчастных войн, добился несомненного успеха, засвидетельствованного всеми современниками. Под его управлением страна испытала действительное облегчение. Русские писатели говорят, что в правление царей Федора и Бориса Русской земле Бог «благополучно время подаде»; московские люди «начаша от скорби бывшие утешатися и тихо и безмятежно жити», «светло и радостно ликующе», и «всеми благинями Россия цветяше». Иностранцы также свидетельствуют, что положение Москвы при Борисе заметно улучшалось, население успокаивалось, даже прибывало, упавшая при Грозном торговля оживлялась и росла. Народ отдыхал от войн и от жестокостей Грозного и чувствовал, что приемы власти круто изменились к лучшему.
Во все годы своей власти Борис чрезвычайно любил строить и оставил по себе много замечательных сооружений. Начал он свои государственные постройки стеною Московского «белого» города[548], шедшего по линии нынешних московских бульваров. Эту стену, или «град каменной около большого посаду подле земляные осыпи», делали семь лет, а «мастером» постройки был русский человек «церковный и палатный мастер» Федор Савельев Конь (или Конев). По тому времени это было грандиозное и нарядное сооружение. С внешней стороны его прикрыли новою крепостью — «древяным градом» по линии нынешней Садовой улицы, «кругом Москвы около всех посадов». С участием того же мастера в то же приблизительно время построили в Астрахани каменную крепость[549]. С 1596 г. начали работать по сооружению знаменитых стен Смоленска, и строил их все тот же «городовой мастер» Федор Конь. Стены Смоленские, длиною более 6 верст, с 38 башнями, были построены менее чем в пять лет. Наконец, Борис на южных границах государства с необыкновенною энергиею продолжал строительство Грозного[550].
В 1570-х годах был разработан в Москве план занятия «дикого поля» на юге крепостями, и постройка городов была начата; но главный труд выполнения плана пришелся уже на долю Бориса. При нем были построены Курск и Кромы; была занята линия р. Быстрой Сосны и поставлены на Сосне города Ливны,.Елец и Чернавский городок; было занято, далее, течение р. Оскола городами Осколом и Валуйками; «на Дону на Воронеже» возник г. Воронеж; на Донце стал г. Белгород; наконец, еще южнее построили Царев-Борисов город[551]. Эта сеть укреплений, планомерно размещенных на степных путях, «по сакмам татарским»[552], освоила Московскому государству громадное пространство «поля» и закрыла 'для татар пути к Москве и вообще в московский центр.
В государственной, деятельности Бориса любопытною чертою было его благоволение к иноземцам. Борис мечтал учредить на Руси европейские школы (даже будто бы университеты); он при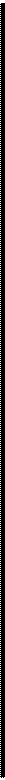 казывал искать за границей и вывозить в Москву ученых; принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или с торгового целью; много и часто беседовал он со своими медиками-иностранцами; разрешил постройку лютеранской церкви в одной из слобод московского посада[553]; наконец, настойчиво желал выдать свою дочь Ксению за какого-либо владетельного европейского принца. Последнее желание Борис пытался исполнить дважды. Первый раз был намечен в женихи изгнанный из Швеции королевич Густав, которого пригласили в Московское государство на «удел» и очень обласкали. Но Густав не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которая последовала за ним в Москву из Данцига[554]. Дело со сватовством расстроилось, и Густав был удален с царских глаз в Углич, где его приберегали на случай возможного воздействия его именем и особою на шведское правительство. Однако Густав не пригодился и против Швеции; он умер мирно в Кашине в 1607 году. Сближение Бориса с Данией повело к другому сватовству: в 1602 году в Московию прибыл в качестве жениха царевны Ксении брат датского короля Христиана герцог Ганс (или Иоанн). С герцогом Гансом дело пошло лучше, чем с Густавом; но волею Божией Ганс расхворался и умер в Москве месяца через полтора по приезде.
казывал искать за границей и вывозить в Москву ученых; принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или с торгового целью; много и часто беседовал он со своими медиками-иностранцами; разрешил постройку лютеранской церкви в одной из слобод московского посада[553]; наконец, настойчиво желал выдать свою дочь Ксению за какого-либо владетельного европейского принца. Последнее желание Борис пытался исполнить дважды. Первый раз был намечен в женихи изгнанный из Швеции королевич Густав, которого пригласили в Московское государство на «удел» и очень обласкали. Но Густав не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которая последовала за ним в Москву из Данцига[554]. Дело со сватовством расстроилось, и Густав был удален с царских глаз в Углич, где его приберегали на случай возможного воздействия его именем и особою на шведское правительство. Однако Густав не пригодился и против Швеции; он умер мирно в Кашине в 1607 году. Сближение Бориса с Данией повело к другому сватовству: в 1602 году в Московию прибыл в качестве жениха царевны Ксении брат датского короля Христиана герцог Ганс (или Иоанн). С герцогом Гансом дело пошло лучше, чем с Густавом; но волею Божией Ганс расхворался и умер в Москве месяца через полтора по приезде.
При Борисе московское правительство впервые прибегло к той просветительной мере, которая потом, с Петра Великого, вошла в постоянный русский обычай. Оно отправило за границу для науки несколько «русских робят», молодых дворян; они должны были учиться «накрепко грамоте и языку» той страны, в которую их посылали. Документально известно о посылке в Любек пяти человек и в Англию — четырех. По свидетельству же одного современника — немца, было послано всего 18 человек, по 6-ти в Англию, Францию и Германию. Из посланных назад не бывал ни один: часть их умерла до окончания выучки, часть куда-то разбежалась от учителей «неведомо за што», а кое-кто остался навсегда за границею, проникшись любовью ко вновь усвоенной культуре. Напрасно московские дипломаты пытались заводить за границею речь о возвращении домой посланных: ни сами «робята», ни власти их нового отечества не соглашались на возвращение их в Москву.
Очерк политической деятельности Бориса не вскрывает никакой «системы» или «программы» его политики.
Несколько легче определить по известным фактам тенденцию, руководившую на деле политикой Бориса: несомненно, он действовал в пользу средних классов московского общества и против знати и крепостной массы. По крайней мере именно от средних общественных слоев он получал благосклонную оценку и признание принесенной им пользы и «благодеяний к мирови». Политический расчет Бориса был дальновиден и для московского правительства был оправдан всем ходом общественной жизни XVII века. Но сам Борис не мог воспользоваться плодами собственной дальновидности, ибо при его жизни средние слои московского общества еще не были организованы и не сознали своей относительной социальной силы. Они не могли спасти Бориса и его семьи от бед и погибели, когда на Годуновых ополчились верх и низ московского общества: старая знать, руководимая давнею враждою к Борису и его роду, и крепостная масса, влекомая ненавистью к московскому общественному порядку вообще.
Карамзин считает «беззаконием» Бориса то преступление, ко- -торое ему приписывалось современниками, — убийство царевича Димитрия в Угличе. В другие «беззакония» Бориса Карамзин не верил; но в это не смел не верить, так как оно утверждаемо было церковью[555].
Ропот зависти и злобы сопровождал, конечно, всякий шаг Бориса по пути его к власти и единоличному господству во дворце и государстве. Борьба Бориса с боярами-княжатами за дворцовое преобладание повела за собою ссылки бояр (причем кое-кто из них в ссылке умер) и даже казни некоторых их сторонников. Корни самозванческой интриги были скрыты где-то в недрах дворцовой знати, враждебной Борису, и скорее всего в кругу Романовых и родственных им или близких по свойству семей[556]. Когда войска самозванца появились на московских рубежах и надобно было двинуть на них московскую рать, Борис без колебаний вверил начальство над нею родовитым «княжатам»: Трубецкому, Мстиславскому, Шуйскому, Голицыну. Он не боялся, что они изменят и предадут его, ибо знал, что эта высокородная среда далека от ; самозванщины. И он не ошибался: княжата загнали самозванца в Путивль и лишь случайно не добили его. Но Борис не послал в свое войско уцелевших от опал и ссылок людей Романовского круга, по их явной для него ненадежности и «шатости». Никого из фамилий, прикосновенных к делу Романовых, мы не видим в составе военного начальства в рати, действовавшей против самозванца. В их именно среде Борис мог предполагать тех своих недоброхотов, которые желали успеха самозванцу и о которых один современник сказал, что они, «радеюще его (самозванцева) прихода к Москве, егда слышат победу над московскою силою Борисовой), то радуются; егда же над грядущего к Москве чаемого Димитрия победу, то прискорбии и дряхлы ходят, поникши главы».
В борьбе с самозванцем Годуновы испытали на себе действие вражды, возбужденной против них как ими самими, так и вообще московским правительством, среди всех оппозиционных кружков московского общества. Если самозванца подготовила против Бориса одна часть московской придворной знати, бывшая когда-то с Борисом в «завещательном союзе» дружбы, то другая часть этой знати, именно княжата, выждала удобную минуту для того, чтобы с помощью самозванца попытаться низвергнуть преемников Бориса. Моменты выступлений были различны, но цель у знати была одна — уничтожение ненавистной династии Годуновых. Когда народная масса на московских украйнах встала «за истинного царя Димитрия Ивановича», она пошла против Годуновых как представителей той власти, которая создала крепостной режим в государстве и сжила трудовой народ с его старых жилищ и привычной пашни[557]. Если «лихие бояре», становясь против Годуновых, хотели себе власти, то украинная чернь, ополчаясь на Годуновых, шла против «лихих бояр» и желала себе воли, надеясь, что «истинный царевич» даст народу щедрое «жалованье» и чаемую перемену общественных порядков.
Устроясь в замке Мнишков в Самборе[558], самозванец навербовал себе небольшое войско из местных польских элементов, готовых поддержать авантюру московского царевича. К этому войску современники относились с некоторым пренебрежением, как к «жмене» (горсточке) людей, не представлявшей собою сколько-нибудь заметной силы. Численность «жмени» не превышала 3500—4000 человек в ту минуту, когда (в октябре 1604 г.) самозванец начал свой поход на Бориса и под Киевом «перевезся» через Днепр на московскую сторону, «в рубеж Северский»[559]. Все лето 1604 года поддерживал он из Самбора сношения с населением московской украйны и налаживал там восстание в свою пользу. Все лето привлекал он к себе московских выходцев и рассылал по московским областям свои «прелестные письма» (так назывались тогда прокламации). Посылал самозванец и на Дон извещать о себе «вольных» казаков, там живших. Есть известие, что ходоки с Дона были у самозванца в Самборе; приходили они к нему а на походе в разных местах, а на берегах Днепра и Десны казаки присоединялись к самозванцу уже тысячами. В Чернигове он имел их уже до 10 000. А кроме того, отдельно от рати самозванца, на востоке от нее, на путях с юга к Москве, составилась особая казачья и служилая рать, действовавшая именем Димитрия и в пользу самозванца. Таким образом, можно сказать, что самозванец и его агенты и вдохновители начали свою борьбу с Борисом тем, что организовали против московского правительства восстание южных областей государства.
Общая почва для этого восстания нам уже известна. Выселение на юг недовольной массы наполнило «край земли» московской «воинственным людом» оппозиционного настроения. К этому люду голодовка 1601—1603 годов присоединила новые кадры беглецов из государства, новых «приходцев». Государство, однако, не оставляло эмигрантов в покое на новых местах их поселений. Вышедшие на южную границу государства «приходцы» недолго могли там пользоваться простором и привольем, так как быстрая правительственная заимка «дикого поля» приводила свободное население «поля» в правительственную зависимость, обращая «приходцев» или в приборных служилых людей[560], или же в крестьян на поместных землях. Даже казачество привлекалось на службу государству и, не умея пока устроиться и само обеспечить себя на «поле» и «реках», шло служить в пограничные города и на сторожевые пограничные
посты и линии. Таким образом, государственный режим, от которого население уходило «не мога терпети», настигал ушедших и работил их. Уже в этом заключалась причина раздражительности и глухого неудовольствия украинного населения, которое легко «сходило на поле» с государевой службы, а если и служило, то без особого усердия. Но недовольство должно было увеличиваться и обостряться особенно потому, что служилые тяготы возлагались на население без особой осмотрительности, неумеренно.
Не говоря уже о прямых служебных трудах — полевой или осадной службе, население пограничных городов и уездов привлекалось к обязательному земледельческому труду на государя. В южных городах на «поле» была заведена казенная «десятинная» пашня[561]. В Ельце, Осколе, Белгороде, Курске размеры этой пашни при царе Борисе были так велики, что последующие правительства, даже в пору окончательного успокоения государства, не решались возвратиться к установленным при Борисе нормам. Собранное с государ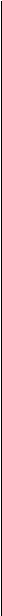 ственных полей зерно если не лежало в житницах в виде мертвого запаса, то посылалось далее на юг для содержания еще не имевших своего хозяйства служилых людей.
ственных полей зерно если не лежало в житницах в виде мертвого запаса, то посылалось далее на юг для содержания еще не имевших своего хозяйства служилых людей.
Таким образом, то население московского юга, которое служило правительству в новых городах, не могло быть довольным обстановкою своей службы. Собранные на службу «по прибору» из элементов местных, из недавних «шриходцев» с севера, эти служилые люди — стрельцы и казаки, ездоки и вожи, пушкари и затинщики[562] — еще не успели забыть старых условий, которых сами они или их отцы стремились «избыть» в центральных местностях государства. Но «избыв» одного зла, этот люд на новых местах нашел другое — вместо барской пашни нашел казенную, одинаково кабалившую. Если ранее его врагом представлялся ему землевладелец, то теперь его врагом было правительство и чиновники, угнетавшие народ тягостной службой и казенной запашкой. В голодные годы настроение недовольных должно было очень обостриться, и «прелестные письма» самозванца находили для себя прекрасную обстановку. Украина легко поднималась на центр, увлеченная возможностью соединить свою месть угнетателям с помощью угнетенному «истинному царевичу». В одну «казачью» массу сбились ставшие за Димитрия служилые люди и «вольные казачия» — военное население укрепленных городков и бродячие обитатели казачьих заимок, юртов и станов; и вся эта масса двинулась на север, ожидая соединения с «царем Димитрием» там; где он укажет.
Таким образом, кампания самозванца против Бориса началась сразу на двух фронтах. Сам самозванец вторгся в Московское государство от Киева и пошел вверх по течению р. Десны, по ее правому берегу, надеясь этим путем выйти на верховье Оки, откуда пролегали торные дороги на Москву. В то же время казачьи массы с «поля» пошли на север «по крымским дорогам», группируясь так, чтобы сойтись с самозванцем где-нибудь около Орла или Кром и оттуда вместе с ним наступать на Москву через Калугу или Тулу.
В Путивле самозванец узнал, что его признали Оскол, Валуйки, Воронеж, Елец, Ливны. Все «поле» было захвачено движением против московского правительства, и бояре, стоявшие во главе армии Бориса, должны были оставить преследование самозванца и к весне отвести войска на север, чтобы они не были отрезаны от сообщений с Москвою. Бояре отошли к крепости Кромам, у которой был важный узел дорог, сходившихся здесь изо всего охваченного восстанием района. В Кромах уже сидели казаки; московские войска окружили Кромы и заградили выход казакам на север к Москве. Здесь и образовался надолго фокус военных операций; ни казаки не могли двигаться вперед, ни Борисовы войска не могли их прогнать из Кром на юг. Так протекла зима г 1604—1605 года. А раннею весною произошло решительное событие: царь Борис скончался 13 апреля 1605 года.
Прошло только три недели с его смерти, и войско Бориса под Кронами уже изменило Годуновым и передалось «истинному царю Димитрию Ивановичу». А еще через три недели семья Бориса была взята из дворца на старый Борисов двор, где 10 июня были убиты вдова и сын Бориса, а его дочь обращена в поруганную узницу.
Годуновых не щадили даже после их смерти, и прах их не сразу нашел место вечного успокоения. Тело Бориса из Архангельского собора, где его первоначально похоронили, было вывезено в Варсонофьевский монастырь[563] (в самой Москве), а оттуда отправлено в Троице-Сергиев монастырь, где в конце концов были погребены и другие члены его семьи.
Сложность и многогранность его деятельности обнаружили во всем блеске его правительственный талант и его хорошие качества — мягкость и доброту; но эти же свойства сделали его предметом не только удивления, восторга и похвал, но и зависти, ненависти и клеветы. По воле рока, злословие и клевета оказались вероподобными для грубых умов и легковерных сердец и обратились в средство политической борьбы и интриги. Пока Борис был жив и силен, интриги не препятствовали ему править и царствовать. Но как только он в пылу борьбы и в полном напряжении труда окончил свое земное поприще, интрига и клевета восторжествовали над его семьей и погубили ее, а личную память Бориса омрачили тяжкими обвинениями. Обвинения, однако, не были доказаны: они только получили официальное утверждение государственной и церковной власти и передали потомству загрязненный облик Бориса.
4. ГИБЕЛЬ ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ [564]
Иван IV был последним потомком Калиты, имевшим многочисленную семью. Его первая жена Анастасия Романова родила трех сыновей — Дмитрия, Ивана и Федора — и несколько дочерей. Вторая царица Мария Тюмрюковна родила сына Василия, последняя жена Мария Нагая — сына Дмитрия. Все дочери Грозного, как и царевич Василий, умерли в младенческом возрасте. Первенец царя и его младший сын, носившие сходные имена, погибли из-за несчастной случайности[565]. Царевич Иван Иванович, достигший двадцатисемилетнего возраста и объявленный наследником престола, умер от нервного потрясения, претерпев вместе с беременной женой жестокие побои от отца[566]. Единственный внук Грозного появился на свет мертворожденным, и в этом случае виновником несчастья был царь, подверженный страшным припадкам ярости. Потомство Грозного оказалось обречено на исчезновение. Причиной был не только дурной характер царя и несчастные стечения обстоятельств, но и факторы природного характера. Браки внутри одного и того же круга знатных семей имели отрицательные биологические последствия. Уже в середине XVI в. стали явственно видны признаки вырождения царствующей династии. Брат Ивана IV Юрий Васильевич был глухонемым от рождения и умер без потомства. Сын Грозного царь Федор Иванович отличался слабоумием, болезненным телосложением и тоже не оставил детей. Младший сын Ивана Дмитрий страдал эпилепсией. Недуг был неизлечим, и шансы на то, что царевич доживет до зрелых лет и оставит наследника, были невелики.
Умирая, царь передал трон любимому сыну Федору, а сыну Дмитрию выделил удельное княжество со столицей в Угличе.
Федор отпустил младшего брата на удел «с великой честью», «по царскому достоянию». В проводах участвовали бояре, 200 дворян и несколько стрелецких приказов[567].
Прошло несколько лет, и Борис Годунов, управлявший государством от имени недееспособного Федора, прислал в Углич дьяка Михаила Битяговского[568]. Дьяк был наделен самыми широкими полномочиями.
Жизнь царевича Дмитрия Угличского оборвалась в то время, когда Углич перешел под управление Битяговского.
Со времени Н. М. Карамзина обвинение Годунова в убийстве Дмитрия стало своего рода традицией. «Злодейское убийство» незримо присутствует в главных сценах пушкинской трагедии о Борисе Годунове. Именно Карамзин натолкнул Пушкина на мысль изобразить в характере царя Бориса «дикую смесь: набожности и преступных страстей». Под влиянием этих слов А. С. Пушкин, по его собственному признанию, увидел в Борисе его поэтическую сторону. Разумного и твердого правителя не страшит бессмысленная злобная клевета, но его гнетет раскаяние. Тринадцать лет кряду ему все снится убитое дитя. Муки совести невыносимы:
...Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах...
В самом ли деле эпизод смерти Дмитрия сыграл в жизни Годунова ту роль, какую ему приписывали? Рассмотрим факты, чтобы ответить на этот вопрос.
Младший сын Грозного, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в полдень 15 мая 1591 г. Повести и сказания Смутного времени заполнены живописными подробностями его убийства. Но среди их авторов не было ни одного очевидца угличских событий. В лучшем случае они видели мощи царевича, выставленные в Москве через пятнадцать лет после его гибели.
Искать в житиях достоверные факты бесполезно. Несравненно большую ценность представляют следственные материалы, составленные через несколько дней после кончины царевича на месте происшествия. Однако давно возникли подозрения насчет того, что подлинник «углицкого дела» подвергся фальсификации.
Существует мнение, что Годунов направил в Углич преданных людей, которые заботились не о выяснении истины, а о том, чтобы заглушить молву о насильственной смерти угличского князя. Такое мнение не учитывает ряда важных обстоятельств. Следствием в Угличе руководил князь Шуйский, едва ли не самый умный и изворотливый противник Бориса. Один его брат был убит повелением Годунова, другой погиб в монастыре. Сам Василий Шуйский провел несколько лет в ссылке, из которой вернулся незадолго до событий в Угличе. Инициатива назначения Шуйского принадлежала скорее всего Боярской думе. Церковное руководство направило для надзора за его деятельностью митрополита Гелвасия. В состав комиссии Шуйского входили также окольничий Клешнин и думный дьяк Вылузгин[569]. Члены комиссии придерживались различной политической ориентации. Каждый из них зорко следил за действиями «товарища» и готов был использовать любую его оплошность.
Следственные материалы свидетельствовали о непричастности Бориса к смерти царевича.
К моменту смерти царевича не исчезла полностью возможность рождения законного наследника в семье Федора. Никто не мог точно предсказать, кому достанется трон. Из ближних родственников царя наибольшими шансами обладал не Годунов, ими обладали Романовы[570].
Ситуация, сопутствовавшая угличским событиям, носила критический для правительства характер. Над страной нависла непосредственная угроза вторжения шведских войск и татар. Власти готовились к борьбе не только с внешними, но и с внутренними врагами. За одну-две недели до смерти Дмитрия они разместили на улицах столицы усиленные военные наряды и осуществили другие полицейские меры на случаи народных волнений. Достаточно было малейшего толчка, чтобы народ поднялся на восстание, которое для Годунова могло кончиться катастрофой.
В такой обстановке гибель Дмитрия явилась для Бориса событием нежелательным и, более того, крайне опасным. Факты опровергают привычное представление, будто устранение младшего сына Грозного было для Годунова политической необходимостью.
Следственные материалы сохранили, по крайней мере, две версии гибели Дмитрия.
Версия убийства исходила от Нагих, родни погибшего[571]. Михаил Нагой на протяжении всего следствия решительно настаивал на том, что Дмитрия зарезали сын дьяка Битяговского, его же племянник Никита Качалов и муж его племянницы Осип Волохов. Братья Михаила выступили с более осторожными показаниями. Возле тела царевича, сказал Григорий Нагой, собралось много людей и «почали говорить, неведомо хто, что будто зарезали царевича». Михаил и Григорий Нагие прибыли к месту происшествия с большим запозданием. Тем не менее они утверждали, что «царевич ещо жив был и при них преставился».
Они явно путали. Андрей Нагой обедал с царицей во дворце, когда под окнами закричали, что «царевича не стало». Поспешно сбежав во двор, Андрей убедился, что «царевич лежит у кормилицы на руках мертв, а сказывают, что его зарезали, а он того не видел, хто его зарезал». Причина ошибки, допущенной Михаилом и Григорием, достаточно проста. Несколько человек, видевшие их вблизи, не сговариваясь показали, что Михаил прибыл во дворец «мертв пиян», «прискочил на двор пьян на коне». Григорий был «у трапезы» вместе с братом.
Протоколы допросов позволяют установить, зачем понадобилась Нагим версия убийства Дмитрия. С помощью этой версии они пытались оправдать расправу с государевым дьяком Битяговским.
В полдень 15 мая царица Мария стала обедать, а сына отпустила погулять и потешиться игрой с четырьмя сверстниками. Дети играли на небольшом заднем дворике — в углу между дворцом и крепостной стеной. За ними приглядывала мамка Василиса Волохова и две другие няньки. Обед только начался, как вдруг на дворе громко закричали. Царица поспешно сбежала вниз и с ужасом увидела, что ее единственный сын мертв. Обезумев от горя, Нагая принялась избивать Волохову. Мамка не уберегла царского, сына, и царица готова была подвергнуть ее самому страшному наказанию. Колотя Василису по голове поленом, Мария громко кричала, что царевича зарезал сын мамки Осип. Слова царицы равнозначны были смертному приговору.
Нагая велела бить в колокола и созвать народ. Немолчный гул набата поднял на ноги весь город. Возбужденная толпа запрудила площадь перед дворцом. Главный дьяк Углича Михаил Битяговский, заслышав звон, прискакал в кремль. Он помчался в верхние покои, «а чаял того, что царевич вверху», оттуда бросился в церковь и мимо тела царевича взбежал на колокольню. Дьяк ломился в звонницу и требовал, чтобы прекратили бить в колокола, но звонарь, по его словам, «ся запер и в колокольню его не пустил».
Отношения государева дьяка Битяговского с Нагими были испорчены едва ли не с момента его приезда в Углич. Удельная 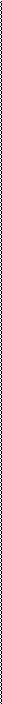

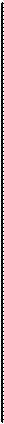
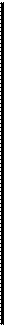
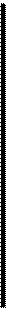 семья утратила право распоряжаться доходами своего княжества и стала получать деньги «на обиход» из царской казны. Назначенное правительством содержание казалось царице мизерным, а зависимость от дьяка — унизительной. Стряпчий[572] царицы и другие лица сообщили комиссии, что Михаил Нагой постоянно «прашивал сверх государева указу денег ис казны», а Битяговский «ему отказывал», из чего проистекали ссоры и брань. Последняя стычка между ними произошла утром 15 мая.
семья утратила право распоряжаться доходами своего княжества и стала получать деньги «на обиход» из царской казны. Назначенное правительством содержание казалось царице мизерным, а зависимость от дьяка — унизительной. Стряпчий[572] царицы и другие лица сообщили комиссии, что Михаил Нагой постоянно «прашивал сверх государева указу денег ис казны», а Битяговский «ему отказывал», из чего проистекали ссоры и брань. Последняя стычка между ними произошла утром 15 мая.
На княжом дворе сначала дьяк попытался прикрикнуть на толпу, а затем принялся увещевать Нагого, чтобы «он, Михаила, унел шум и дурна которого не зделал». С помощью Качалова Битяговские помешали расправе с Волоховыми, что окончательно взбесило царицу и ее братьев. Решено было натравить на Битя-говских толпу. Избитая в кровь и брошенная на площади Василиса Волохова видела, как царица указала на Битяговских и молвила миру: «то-де душегубцы царевича». Пьяный Михаил Нагой взялся было руководить расправой с дьяком, но на помощь Битяговским пришли их родственники и холопы. Несколько позже Михаил Нагой хвастался перед своими сообщниками, что это он велел убить дьяка и его сына, а Качалова «да Данила Третьякова да и людей их велел побити я же для того, что они у меня отнимали Михаила Битяговского (с) сыном».
Спасаясь от Нагого, дьяк и его сторонники заперлись в Дьячей избе. Малодушие окончательно погубило их. Толпа высекла двери, разгромила избу и расправилась с укрывавшимися там людьми. Даже служивший царице дворянин должен был признать перед комиссией, что приказных побила всякая чернь «с Михайлова веленья Нагова».
С площади люди ринулись на подворье Битяговских, разграбили его и «питье из погреба в бочках выпив, и бочки кололи». Жену дьяка, «ободрав, нагу и простоволосу поволокли» с детишками ко дворцу.
Версия о злодейском убийстве Дмитрия возникла, таким образом, во время самосуда. Нагие выдвинули ее как предлог для расправы с Битяговскими. Но обвинения против государева дьяка не выдерживали критики. Семья Битяговских не могла принять участия в преступлении. Вдова дьяка рассказала на допросе, что члены ее семьи обедали на своем дворе, когда позвонили в колокол. Гостем Битяговских был в тот день священник Богдан. Будучи духовником Григория Нагого, Богдан изо всех сил выгораживал царицу и ее братьев. Но он простодушно подтвердил перед комиссией Шуйского, что сидел за одним столом с дьяком и его сыном, когда ударили в набат. Таким образом, Битяговские имели стопроцентное алиби.
Допрос главных свидетелей привел к окончательному крушению версии о преднамеренном убийстве Дмитрия.
Царевич погиб при ярком полуденном солнце, на глазах у многих людей. Комиссия без труда установила имена непосредственных очевидцев происшествия. Перед Шуйским выступили мамка Волохова, кормилица Арина Тучкова, постельница[573] Марья Колобова и четверо мальчиков, игравших с царевичем в тычку. Мальчики кратко, но точно и живо описали то, что случилось на их глазах: «Играл-де царевич в тычку ножиком с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь — падучей недуг — и набросился на нож».
Трое видных служителей царицына двора — подключники[574] Ларионов, Иванов и Гнидин — показали следующее: когда царица села обедать, они стояли «в верху за поставцом, ажио деи бежит в верх жилец Петрушка Колобов, а говорит: тешился деи царевич с нами на дворе в тычку ножом и пришла деи на него немочь падучая... да в ту пору, как ево било, покололся ножом, сам и оттого и умер».
Петрушка Колобов был старшим из мальчиков, игравших с царевичем. Перед Шуйским он держал ответ за всех своих товарищей. Колобов лишь повторил перед следственной комиссией то, что сказал дворовым служителям через несколько минут после гибели Дмитрия.
Показания Петрушки Колобова и его товарищей подтвердили Марья Колобова, мамка Волохова и кормилица Тучкова. Слова кормилицы отличались удивительной искренностью. В присутствии царицы и Шуйского она назвала себя виновницей несчастья: «Она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная... и он ножом покололся...»
Показания главных угличских свидетелей совпадают по существу и достаточно индивидуальны по словесному выражению.
Версия нечаянной гибели царевича, опиравшаяся на показания главных свидетелей, заключала в себе два момента, каждый из которых может быть подвергнут всесторонней проверке.
Первый момент — болезнь Дмитрия, которую свидетели называли «черным недугом», «падучей», «немочью падучею». Судя по описаниям припадков и по их периодичности, царевич страдал эпилепсией. Последний приступ эпилепсии у царевича длился несколько дней. Он начался во вторник, на третий день царевичу «маленко стало полехче», и мать взяла его к обедне, потом отпустила во двор погулять. В субботу Дмитрий во второй раз вышел на прогулку и тут-то у него внезапно возобновился приступ (показания мамки). Буйство маленького эпилептика внушило такой страх его нянькам, что они не сразу подхватили его на руки, когда припадок случился в отсутствие царицы во дворе. Как иначе объяснить тот факт, что ребенка бросило оземь и «било его долго». Факт этот засвидетельствовали очевидцы. Мальчик корчился на земле, а возле него кружились няньки и мамки. Когда кормилица подняла его с земли, было слишком поздно.
Второй момент — царевич играл в ножички. Его забаву свидетели описали подробнейшим образом: царевич «играл через черту ножом», «тыкал ножом», «ходил по двору, тешился сваею (остроконечным ножом.— Р. С.) в кольцо». Игра в тычку состояла в следующем: игравшие поочередно бросали нож в очерченный на земле круг, нож обычно брали с острия, метнуть его надо было так ловко, чтобы нож описал в воздухе круг и воткнулся в землю. Никто не знал, в какой именно момент царевич нанес себе рану — при падении или когда бился в конвульсиях на земле. Достоверно знали лишь одно: эпилептик ранил себя в горло.
Могла ли небольшая горловая рана привести к гибели ребенка? На такой вопрос медицина дает недвусмысленный ответ. На ше непосредственно под кожным покровом находятся сонная артери и яремная вена. Если мальчик проколол один из этих сосудов смертельный исход был не только возможен, но неизбежен.
Иногда высказывают мысль, что смерть царевича все же н была нечаянной, так как в подходящий момент кто-то коварнс вложил нож в его руку. Такое предположение беспочвенно, иб оно не учитывает привычек и нравов чванливой феодальной знати, никогда не расстававшейся с оружием. Сабля и нож на бедре служили признаком благородного происхождения. Сыновья знатных фамилий привыкали владеть оружием с самых ранних лет. Маленький Дмитрий бойко орудовал сабелькой, а с помощью маленькой железной палицы забивал насмерть кур и гусей. Ножичек не однажды оказывался в его руке при эпилептических припадках.
5. ЛЖЕДМИТРИЙ I [575]
В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Его личность доселе остается загадочной[576]. Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе. Лжедимитрий держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того созвал земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народнопредставительского, с выборными от всех чинов или сословий2.
Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам.
Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями Лжедимитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах лопулярность его не ослабевала заметно.
Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца, кн. В. И. Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедимитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою: романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с кн. В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки.
6. СВЕРЖЕНИЕ ЛЖЕДМИТРИЯ I В ОПИСАНИИ ОЧЕВИДЦА [577]
27 мая, в субботу рано утром, открылся страшный мятеж: знатнейшие московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы умертвить Димитрия. Немецкая гвардия[578], стоявшая при воротах в числе 30 человек, была прогнана (прочие солдаты находились в-своих домах, где велел им остаться, именем великого князя, один из заговорщиков); после того бояре разломали двери в покоях великокняжеских и ворвались в них. Димитрий, сведав о такой измене, бросился в комнаты своей супруги[579], рассказал ей о бунте и, дав совет, каким образом спасти себя, быстро побежал из одной комнаты в другую, наконец выскочил из окна на подмостки, устроенные для свадебного празднества; отсюда хотел спрыгнуть на другие, но оступился и упал с ужасной высоты, среди небольшого двора; тут увидев несколько стрельцов, бывших на страже, он умолял их спасти его жизнь, за что обещал им щедрую награду. Все стрельцы дали клятву умереть за него. Между тем изменники не зевали, быстро его преследовали по всем комнатам, выламывали двери; наконец увидели жертву среди стрельцов и многочисленною толпою бросились по лестницам на двор. Стрельцы сначала твердо стояли за великого князя и несколько отогнали крамольников; но Василий Иванович Шуйский, зачинщик и глава всего заговора, собрав своих товарищей, убеждал их мужественно довершить начатый подвиг: «Мы имеем дело не с таким человеком,— говорил он,— который мог бы забыть малейшую обиду; только дайте ему волю, он запоет другую песню: пред своими глазами погубит нас в жесточайших муках! Так! Мы имеем дело не просто с коварным плутом, но со свирепым чудовищем; задушим, пока оно в яме! Горе нам, горе женам и детям нашим, если эта бестия выползет из пропасти!» Тут завопили в толпе; «Пойдем в стрелецкую слободу; истребим семейства, если они не хотят выдать изменника, плута, обманщика!» Как скоро стрельцы услышали угрозы, тотчас забыли клятвенное обещание спасти Димитрия и оставили его: любовь к жене и детям всегда сильнее царских сокровищ! Бояре же бросились на великого князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын Иоанна Васильевича? «Отведите меня к матери,— отвечал Димитрий,— и ее спросите; если она отречется от меня, тогда делайте что хотите». «Она отрекается от тебя,— воскликнул Голицын[580], бывший в числе главных заговорщиков,— и говорит торжественно, что ты не сын ее, а обманщик!» С этим словом Голицын рассек ему голову саблею; это еще более остервенило бунтовщиков; наконец, один из них, именем Григорий Воейков[581], подскочил к Димитрию и выстрелил в него: он упал и тут же испустил дух. Вместе с ним убит верный слуга его Петр Басманов[582], главный вождь русской армии. Трупы их, нагие, безобразные, были брошены на площадь перед замком: там они лежали трое суток. Великая княгиня, „между тем, заперлась с своими женщинами в одной комнате; туда ломилась чернь; но один благородный поляк, именем Осмольский, смело, мужественно отражал толпу до тех пор, пока не пришли два боярина, которые прогнали чернь и спасли благородных полек от насилия. Осмольский, однако, был застрелен; пуля, поразив его навылет, пробила стену и ранила благородную вдову Хмелинскую, которая умерла через несколько дней от раны.
После этого убийцы излили злобу на музыкантов великого князя: 16 человек умертвили, а многих изуродовали; не убили же последних только потому, что считали их уже мертвыми; потом вломились в дом главного повара великой княгини, Адама Горского, умертвили многих служителей и разграбили все имение его. Воеводу же Сендомирского[583] они не тронули потому, что с ним было много людей вооруженных, и только уведомили его о смерти Димитрия. «Я не знаю ничего, что случилось, — отвечал воевода,™ но подумайте, что вы делаете? Я никого не трону; если же меня оскорбят, буду защищаться до последних сил, до последнего человека!» Изменники приняли меры, чтобы поляки во время смятения не подоспели на помощь к великому князю и не расстроили бы их замысла: для этого ночью перегородили огромными деревьями ту улицу, где расположена была польская конница; били в набат во всех церквах и везде кричали, что поляки режут бояр в Кремле и хотят овладеть столицею. Чернь, многочисленными толпами, с яростию бросилась на постоялые дворы иноземцев, особенно же в Никитскую улицу, где жили придворные чины великого князя и великой княгини. Поляки спрашивали у мятежников, что им надобно? Они же издали кричали: «Отдайте оружие, если хотите остаться живыми!» Некоторые, ничего не ведая и вовсе не подозревая злого умысла, выдали свои ружья и сабли; но тотчас были схвачены, раздеты донага и изрублены в мелкие куски. Другие же, размыслив, что все равно, пасть ли в битве или отдать себя в руки безумной черни, решились обороняться и сражались мужественно до последнего издыхания. Резня была страшная; вся Никитская улица покрылась трупами и кровью: никогда, ни в какой битве не погибало вдруг так много юных дворян польских, даже и во время трехлетней войны Стефана Батория с Россиею[584].
Умертвив многих, мятежники приступили к дому князя Вишневецкого[585]; но были отбиты его людьми. Князь, видя, что разъяренная чернь снова стремится на двор его с луками, пищалями и двумя пушками, собрал своих людей, с геройскою храбростию бросился в средину неприятелей, взял одну большую пушку, множество злодеев положил на месте собственным их оружием и только тогда прекратил битву, когда Василий Шуйский, в знак переговоров бросив вверх шапку, предложил ему мир и безопасность с клятвенным обещанием оставить его невредимым, только с условием, чтобы поляки отдали все свое оружие. Князь согласился исполнить это требование: сам он с Василием Шуйским и немногими из своих людей отправился на постоялый двор; но едва удалился, чернь напала на безоружных служителей его, оставленных в доме для надзора за вещами, побила их всех до одного, а имущество разграбила.
Отсюда она спешила к дому Сигизмунда Тарло, где, кроме жены его и благородной вдовы Герботины, были многие знатные поляки с своими служителями, как то: Любомирский, пан Иордан и другие9; чернь бросилась на двор, но не смела вломиться в покои, ибо видела, что находившиеся там господа и служители, имея довольно ружей, приготовились к упорному сопротивлению; посему она кричала: «Отдайте ружья, если дорога вам жизнь; мы не хотим вашей крови, а желаем только восстановить в городе спокойствие; когда же не верите нашим словам, мы готовы присягнуть, что вы останетесь невредимы». Поляки не знали, что делать; наконец, по просьбе женщин, выдали свое оружие. Москвитяне, получив его, принялись сперва за бывших на дворе служителей, обобрали их до последней рубахи и прибили до полусмерти; когда же господа напомнили им клятвенное обещание, они еще более разъярились и умертвили несчастных; после того разграбили нижний этаж дома, коней увели, экипажи изломали в куски, всю посуду похитили, потом ворвались в верхние покои, не давая пощады никому, самим женщинам: супругу Тарло и госпожу Герботину не только обобрали дочиста, но били кулаками без милосердия; все же золото, серебро, дорогие платья и другие вещи, найденные в доме, разделили между собой. Польские воины, служившие великому князю, узнав о смерти государя, немедленно сели на коней и выехали в чистое поле; там они заключили с москвитянами договор, по коему могли выйти из России; но потеряли все свое имение. Дружина же воеводы Сендомирского, при самом начале волнения, схватила оружие и приготовилась к битве; но увидев, что на нее навели пушки, удалилась на большой двор, где обыкновенно стояла, и там заключила договор с русскими. Много можно было бы рассказать, как москвитяне разбивали шь стоялые дворы, грабили, резали без милосердия поляков, обманутых лестию и ложными клятвами; но для краткости прекратим нашу повесть. Во время смятения погибло поляков около 600 человек, а москвитян слишком 1000; их пало бы гораздо более, если бы они коварным обещанием мира не выманили оружия у своих гостей, которые, отдав его, гибли беззащитными жертвами.
Обнаженный труп Димитрия брошен был на площади. Там издевалась над ним чернь: положив на брюхо маску, вымазанную нечистою грязью, москвитяне кричали: «Вот твой Бог!» Иные вонзали в тело ножи и бросали его с одного места на другое. Наконец, по прошествии трех суток, один купец выпросил у бояр позволение похоронить Димитрия за городом, отчасти из сострадания, отчасти в намерении прекратить бесстыдные над ним забавы площадных торговок. И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что ночью там виден огонь и раздается веселая музыка; для того через восемь дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им огромную пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву, чтобы и праха его не оставалось.
 2013-12-28
2013-12-28 728
728








