– Счастливый путь!
И вдруг Никита Семенович заметил, как от стаи одна за другой отделились две птицы. Медленно кружась, они стали снижаться над тайгой. Вскоре оба лебедя опустились на воду и, тревожно трубя, стали метаться по озеру.
– Да это же старики! – узнал бакенщик. – Чудно что‑то… Почему они вернулись?
Этот вопрос несколько дней не выходил у Никиты Семеновича из головы. Он чаще обычного стал приходить к озеру, надеясь найти там разгадку. Но наблюдения ничего не объяснили. Птицы вели себя как обычно, лишь лебедь иногда, без всякой видимой причины, вдруг поднимался с криком в воздух и подолгу кружил над тайгой, словно порываясь улететь в далекий путь. Потом он садился на воду рядом с лебедкой и нежно гладил по ее перьям большим черным клювом.
Больше всего удивляло бакенщика то, что лебеди, повидимому, и не думали улетать на юг. Наступали холодные осенние дни, все меньше и меньше оставалось перелетных птиц в тайге и на реке, а лебеди, как ни в чем не бывало, плавали вокруг островка или отсиживались от непогоды в побуревших камышах.
|
|
|
Наконец, промчались запоздалые гусиные косяки. Среди оголенных деревьев зашумел пронизывающий ветер, в воздухе замелькала снежная крупа. На озере появились забереги; волны обламывали их с краев, и тонкие льдинки подолгу колыхались, тускло поблескивая под угасающим солнцем.
По реке прошли последние пароходы. Никита Семенович начал снимать с якорей бакены и, занятый этой работой, не заметил, как пролетело время. Однажды ночью на скованную морозами землю выпал снег и больше уже не растаял. Наступила долгая сибирская зима.
Лебеди перебрались к устью впадающей в озеро речки. Это место, где постоянно бурлила на подводных камнях вода, никогда не замерзало, и старик подивился чутью птиц. Как они могли узнать, не бывая здесь зимой, что полынья в устье не затягивается льдом даже в самые лютые морозы?
Зима же в этом году начиналась на редкость суровая. Не прошло и месяца с тех пор, как выпал первый снег, а тайга уже трещала от мороза, какой не всегда бывает даже в январе. Лебеди съежились, нахохлились и совсем не походили на тех царственных птиц, что так гордо красовались на озере летом.
– Ох, замерзнут, бедняги… – вздыхал Никита Семенович, шагая по толстому льду. Рыбаку здесь больше нечего было делать, но лебеди не давали ему покоя, и он каждое утро приходил сюда, чтобы хоть издали посмотреть на них. И глядя на лебедей, добывающих со дна какую‑то пищу, старик иногда думал:
«А может и перезимуют… Большие, сильные птицы. Велик ли воробей, а самые трескучие морозы переносит…»
Но эти слабые надежды не сбылись. Однажды ночью разгулялась бешеная пурга и Никита Семенович, лежа на теплой печке, долго слушал, как грозно гудит потревоженная тайга и воет в трубе ледяной ветер. Сухой колючий снег с силой хлестал в стекла. Потом окна завалило сугробами и в избушке стало тихо, как в подвале…
|
|
|
Утром пурга унялась, стало немного теплее. С трудом выбравшись из сторожки, бакенщик, увязая до пояса в снегу, пошел на озеро.
У полыньи все было так же, как и всегда. Искрился на солнце голубой лед, бурлила вода, в морозном воздухе клубился пар. Только лебеди куда‑то бесследно исчезли.
Никита Семенович долго бродил вокруг полыньи, копался палкой в снегу, приглядывался к каждому бугорку. Старик уже совсем было решил возвращаться домой, когда вдруг наткнулся на птиц под крутым берегом речки. Тесно прижимаясь друг к другу, сплетясь длинными шеями, лебеди сидели неподвижно среди кустов.
Бакенщик хлопнул рукавицами. Птицы не пошевелились. Тогда старик сделал несколько шагов вперед и только тут увидел, что лебеди мертвы.
Грустно опустив голову, Никита Семенович стоял над замерзшими птицами, и перед ним, как видение, всплывала эта гордая пара на зыбких волнах, освещенных розовыми отблесками утренней зари… Затем, подняв лебедей на плечи, бакенщик побрел домой.
В этот день старик был скучен и неразговорчив. Сидя на табуретке, он сосредоточенно точил и без того острый, как бритва, охотничий нож.
– Что же с ними делать, дедушка? – потрогала лебедей внучка Галя. – Перья ощипать?
– Не трожь, – глухо ответил Никита Семенович. – Поставлю я их в избе на память.
Он стал препарировать лебедку и вдруг, оживившись, подозвал Галю.
– Смотри‑ка, смотри! Видишь?
– Вижу, – отозвалась девочка. – Нарост на крыле, – кость, наверное, перебита была…
– То‑то и оно! – воскликнул Никита Семенович. – Летать‑то она летала, а пуститься с таким крылом в дальний путь не решилась.
И тут бакенщик совершенно ясно вспомнил, как летом он примечал, что лебедка очень неохотно поднималась в воздух, а если и летала, то всегда медленнее, чем лебедь.
– Потому она и зазимовала… – сказал Никита Семенович, как бы отвечая на свои мысли.
– А лебедь зачем же остался? – спросила Галя. – Ведь он здоровый был.
Бакенщик долго молчал, глубоко затягиваясь дымом из трубки, потом тихо произнес лишь одно слово:
– Дружба!..
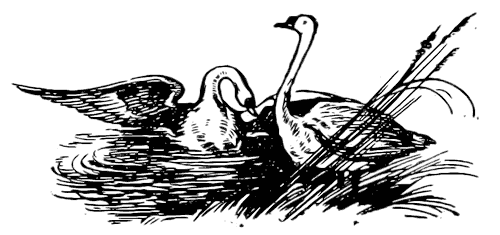
Илья Мухачев
ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ
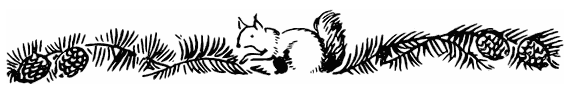
Морозно. Выпал первый снег.
Дорожные закончив сборы,
По чистой, хрупкой белизне
Промысловик уходит в горы.
Там, блеклою травой шурша,
Буранных дней приход почуяв,
Чтобы покоем подышать,
В лесную глубь зверье кочует…
Но звонкий выстрел под горой–
И зверь бежит, забыв свой роздых,
А пуля вслед – и голубой
Слегка посвистывает воздух…
Где зверь упал, там ал снежок…
И, вылетев из чащи мглистой,
Таежный робкий ветерок
Играет шерстью серебристой.
А в отдаленье шорох лыж:
То смелый, ко всему привычен,
Лесную нарушая тишь,
Промысловик спешит к добыче.
Илья Мухачев
МОЛОДОЙ ОХОТНИК
I
Он любит горы, долины, тайгу,
Быстрого зверя стрелять на бегу…
Он любит весен таежных цвет.
Ему восемнадцать веселых лет.
II
Широкая лунность, звезда впереди.
В такую погоду не раз он ходил
На шуструю белку. Хрустели снега.
Шумя, перед ним расступалась тайга.
На теплые плечи с вершин голубых
Сыпалась изморозь – пороха вспых.
Рассвет начинался, и в белом лесу
Мороз был звонок, прозрачен, сух…
Он шел без дороги в страну кедрача
И ствол малопульки мерцал у плеча.
Он целился верно. И выстрел был меток,
И падала белка пушистой кометой
С размашистой ветки. И воздух качало,
И сыпало солнце косыми лучами.
III
|
|
|
Он любит костра золотистый огонь,
Веселую песенку спеть под гармонь.
И, высыпав жаркие сердца слова,
Любимую девушку поцеловать…
Он любит весен таежных цвет,
Ему восемнадцать веселых лет.
Илья Мухачев
ПУРГА
Охотник до солнца ушел в тайгу,
Снег падал на плечи бел.
Горы молчали. Ветер в логу
Лесную легенду пел.
Юные сосны там и тут
Прятали кос убор.
Небо темнело. Обрывки туч
Плыли по склонам гор.
Там, где таежный кустарник сед,
В кругу ледяных болот,
Охотник напал на звериный след
И молча шагал вперед.
Но у поляны, за спуском крутым,
Где хмуро глядел откос,
Тропа изогнулась. И снег, как дым,
Над белым огнем берез.
И все зашумело. От крепкого сна
Проснулся глухой бугор.
Тайга зашаталась, как будто она
Пыталась лететь в простор.
Никто не окликнул сквозь пестрый гам,
Сквозь белую кипень тут:
Охотник, как бы ты ни был упрям,
Найди под скалой приют…
Лишь сивая грива слепой тайги
Да павшего дерева гул…
И черная шапка в дыму пурги,
Качаясь, плыла в тайгу.
Пурга бушевала, пока сухой
Мороз не хлынул с небес,
Пока не укрылся белой дохой
Зеленоватый лес.
Пускай все тропинки позамело
Той бешеною пургой,
Охотник под вечер вернулся в село
С добычею дорогой.
По рыхлой дороге он грузно шагал,
Тряся лохматым плечом…
Видно, в тайге ни мороз, ни пурга
Охотнику нипочем.

Г. Федосеев
НЕПОКОРЕННЫЙ
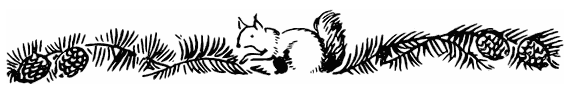
Это было в ноябре, когда по Саянам бушевали снежные бураны. Я с охотником Василием Мищенко возвращался из своего лагеря, расположенного на Сухом Логу, в жилые места. Шли Черным белогорьем. Всюду на необозримом пространстве лежала снежная белизна гор, окаймленная по склонам черной границей леса. Белизна будто скрадывала бугры, ложки и шероховатую поверхность белогорья – все казалось гладким, ровным. Мы торопились. Хотелось к вечеру добраться до вершины реки Кингаш и там, в кедрачах, заночевать. Лыжи легко скользили по отполированной поверхности надувов. Встречный ветер обжигал лицо, стыли руки, и мы с трудом отогревались ходом. За последним подъемом недалеко показался и лес Кингаша. Мы прибавили шаг и через час уже скатывались к реке.
|
|
|
В верхнем ярусе, у границы с белогорьем, лес мелкий, чахлый – это от постоянных ветров и непосильных морозов, но ниже он рослый, стройный, и уже у русла реки нас встретила густая кедровая тайга. Как только мы спустились туда, сейчас же стали подыскивать место для ночевки. В такой тайге приют найти нетрудно. Почти под каждым старым кедром можно укрыться от непогоды, но нам удалось найти такой, под которым не было снега, и мы сейчас же развели костер и приступили к благоустройству своего ночлега. Уже нарубили хвои для постелей, сделали заслон от непогоды, как снизу послышался лай собаки. Мищенко долго и внимательно прислушивался.
– Однако, это Петрухин кобель лает, Соболь, – сказал он, и, несколько подумав, добавил: – Придется итти, не он, так кто‑то другой тут промышляет.
Мы надели котомки и, с надеждой на лучшее, ушли вниз по Кингашу. Сумерки уже окутывали тайгу. Крепчал мороз, и все окружающее нас готовилось к длинной ночи. Вдруг пахнуло дымом, и скоро мы увидели на небольшой поляне примостившуюся между двух елей палатку. Тут же рядом, у саней, кормилась лошадь. Черный кобель, выскочив из‑под саней, с лаем бросился на нас, но, узнав Мищенко, по‑приятельски облапил его. Нас встретил уже пожилой, слегка сгорбленный человек. Мы подошли и поздоровались. Это был известный саянский промышленник из деревни Абалаково Петруха Кормильчик. На нем низко на плечах, подвязанная широким ремнем, висела старая, уже выбитая дошка. Глубоко сидящая на голове шапка, сшитая из козьих лап, тоже была старая, и только унты с длинными голяшками щеголяли своей новизной.
– Заходите, раздевайтесь, – проговорил он после минутного молчания. – Чай готов, будем ужинать. – И старик засуетился.
В палатке было тепло и уютно. От кедровой хвои, которой толсто был устлан пол, шел смолевый запах. На железной печи, шумно играя крышкой, кипел чайник. Мы сняли котомки, разделись и стали отогреваться.
Через полчаса все сидели за чаем. Из разговора я узнал, что Мищенко и Кормильчик – близкие люди. Первый рос и, как говорят в Сибири, поднимался на ноги у Кормильчика, он‑то и сделал из него прекрасного охотника и незаурядного следопыта. Василий расспрашивал его о своей семье, которую он покинул еще весной, уходя в экспедицию, о близких, и только несколько позже спросил:
– Неужто зверя ближе нет? Что за неволя заставила ехать так далеко?
– Как нет, везде он есть, да только там ближе не с моей теперь силой взять его.
Он допил чай и отставил чашку.
– Неделю назад, – продолжал Кормильчик, – беда стряслась над нашим маральником. Заскочили волки и шесть зверей убили, окаянные. Ведь случая не было, чтобы хищники могли перескочить через этакую изгородь. Вызвали меня и деда Леваху на правление. Ну, говорит председатель, как же вы, деды, добро колхозное просторожили. Хотя и не совсем наша вина, но оправдываться не стали. Вот и пришлось ехать добывать зверя, сами знаете, его в сельпо не купишь. Дневать бы завтра остались, – вдруг обратился он ко мне.
– Как Василий, он, ведь, домой торопится, а мне все равно, можно и отдохнуть, – ответил я ему.
– Да не отдыхать, – перебил меня Кормильчик, – хотел просить Василия помочь мне зверя поймать, все же вдвоем легче и надежнее.
– Живьем зверя? – переспросил я. Это меня заинтересовало. Пришлось согласиться. Но при одном условии, что и я приму участие в этом необычном промысле.
Морозная ночь низко спустилась к тайге, и еще не успела темнота упрятать долину, как все кругом нас закуржало. В лесу стало тихо, и только однотонно похрустывал, кормясь зеленым сеном, конь. После утомительного перехода через Черное Белогорье спали крепко, но недолго. Далеко до рассвета нас разбудил старик. Завтрак уже был готов. Мы быстро оделись, освежились холодной водой и, закусив, стали готовиться в путь.
Мищенко и Петруха взяли с собой в котомки по большой сохатиной коже, мягко выделанной, камусы[11] и по нескольку концов веревок, я же – продукты, топор и котелок. На мой вопрос: почему они не берут с собой ружья, Кормильчик ответил:
– К чему они, лишняя тяжесть, не нужно.
Тонкая полоска света уже окрашивала восток. Передом шел Мищенко. За ним Петруха. Куда девалась его старость? Как только он пошевелил лыжами, сразу исчезла сгорбленность, он стал более подвижным, ловким, и я с трудом поспевал за ним.
В тайге становилось все светлее и светлее, скоро из‑за гор показалось и солнце. Мы обошли несколько вершинок и без результата уже подходили к вчерашнему своему следу, как вдруг идущий впереди Мищенко круто повернул вправо и, затравив лыжи, рванулся вниз. Следом за ним свернул и Кормильчик. У поворота я увидел три свежих следа изюбрей. Промышленники уже были далеко и, мелькая между кедрачей, скрылись с глаз. Там, в ключе, они подождали меня, покурили, подтянули юксы на лыжах и, не торопясь, все мы тронулись дальше.
Звери шли густым кедрачом и, кормясь на ходу, срезали острыми зубами тонкие ветки берез и рябины. Мы подвигались их следом. Меня немало удивляло странное поведение промышленников. Они будто забыли про осторожность, громко переговаривались; иногда, сбивая с лыж снег, стучали бадожками, и вообще шли шумно, тогда как всякая охота по зверю требует от охотника исключительного умения передвигаться бесшумно и держать себя незамеченным. Их поведение было для меня непонятным.
От первой разложины звери пошли крупными прыжками, видимо, там они услышали нас. Идущий впереди Мищенко прибавил шагу, но Петруха сейчас же крикнул:
– Не торопись, пусть идут своим ходом.
Звери, почуяв опасность, быстро удалялись и, верные привычке убегать от врага в гору, и на этот раз пробивались к белогорью. Мы неотступно шли за ними. Часа через полтора кедровая тайга стала редеть, появились невысокие ели и прогалины чистого снега. Вдруг впереди мелькнула серая тень, затем вторая, третья. Промышленники задержались.
Уже больше двух километров звери шли одним следом, пробивая себе дорогу по глубокому снегу. Но чем круче становился подъем, тем глубже был снег и тем все медленнее и медленнее они уходили от нас. Теперь мы чаще стали видеть их остановки и даже лежки.
Покурив, охотники выбили трубки, заткнули за пояс кисеты и, не торопясь, продолжали свой путь. Солнце уже было за полдень. Еще немного времени, и на небольшой поляне мы увидели изюбрей. Сбившись в кучу, они смотрели на нас. Позади всех стоял крупный бык. Развернув перед нами красивые десятиконцовые рога, он, как изваяние, оставался на минуту недвижимым. Что‑то непередаваемое, величественное было в его позе.
– Неужели он сдастся? – думал я, рассматривая зверя. Не верилось, чтобы этот гордый красавец Саян мог распрощаться со свободой. Рядом с быком стояла матка. Не отводя от нас взгляда, она топталась на месте, а из‑за ее спины, подняв голову, со страхом выглядывал нинян. Помахивая маленькими рожками, он, казалось, больше всех был возмущен нашим преследованием.
Неожиданно Мищенко стукнул бадожком о березку, и сейчас же бык огромными прыжками рванулся вперед. Следом за ним бросились и остальные. Теперь все они шли на наших глазах не более как в 150 метрах. Мы видели, как, утопая до полбока, бык бороздил грудью снег. Он шел тяжело, часто останавливался, нервничал и прыгал. Иногда, охваченная страхом, вперед выскакивала матка; тогда еще медленнее шли звери. Бык злился, бил матку передними ногами и, если это не помогало, отталкивал ее и сам выскакивал вперед. Теперь было ясно, что глубокий снег сломил им силы, и звери все чаще и чаще стали останавливаться. Казалось, что под действием усталости у них исчез и сам страх. А мы теперь нарочно не давали им передохнуть. Охотники стали покрикивать на изюбрей, махать и стучать бадожками, словом, – подгонять их. Те вначале пугались и, не щадя себя, бросались вперед, но затем привыкли к крику и уже кое‑как, через силу, лезли вверх.
Но вот мы скоро оказались на границе леса. Дальше круто вверх уходило чистое снежное поле. Звери остановились. Из открытых ртов свисали длинные языки, звери тяжело дышали и уже без страха смотрели на нас. Петруха подал знак – итти вперед. Мы обошли зверей, и как только все оказались выше их, Василий крикнул: – Пошел! – и его лыжи, легко скользнув по снежной поверхности, покатились прямо на изюбрей.
– По‑ше‑ел! – повторил он протяжно и громко.
Звери рванулись вниз и крупными прыжками стали уходить своим следом. Теперь под гору им бежать было легче, и они быстро удалялись. Вихрем взметнулся под лыжами снег, мелькали кедрачи. Два с лишним километра продолжалась эта гонка. Мне казалось, что к зверям вернулась их сила и что они теперь вне опасности.
– Хватит! – вдруг крикнул Кормильчик, и мы остановились. Звери сейчас же замедлили ход; бежавший впереди бык пошел шагом; затем они все остановились.
– Пусть немного отдохнут, а то как бы не запалились, – сказал Петруха.
Промышленники, присев на снег, снова закурили. Звери, не дожидаясь нас, минуты через две шагом тронулись дальше. Мы оттолкнули лыжи и тихо пошли. Теперь, глядя на зверей, можно было сказать другое – что они окончательно выбились из сил и что если бы не другая какая‑то неугомонная сила, они, пожалуй, уже и сдались бы.
Через несколько сот метров идущий позади нинян стал отставать и уже кое‑как плелся по следу.
– Управляйтесь с ним, а я потихоньку пойду дальше, – сказал, не задерживаясь, Кормильчик.
Мы отбили ниняна от остальных зверей. Он тяжело дышал, недоуменно смотрел на нас и, угрожая, изредка махал головой. Но в его еще детских глазах, прикрытых густыми ресницами, можно было прочесть только усталость, да разве еще безразличие. Мищенко, торопясь, снял котомку и стал доставать кожу, веревки и камусы. Нинян внимательно наблюдал за ним. Вдруг пошатнулся, раз, другой, и, забросив зад, свалился в снег. И сейчас же из его груди вырвался вздох облегчения, похожий на тот, которым выражают полное удовлетворение.
Приготовления длились недолго, и всякий раз, как только наши движения казались ему подозрительными, он приподнимал голову, настораживал уши, но не вставал. Через минуту мы уже возились около него. Я с любопытством следил за Василием. Он быстро обмотал каждую ногу пониже колен камусом, затем сложил их вместе и связал веревкой. Нинян вначале бился, вырывался, но скоро сдался и только стонал.
– Камысом обматываем ноги, чтобы веревкой их не поморозить – вишь, какая стужа, – ответил на мой вопрос Василий. Затем он развернул кожу, подложил ее вниз шерстью под ниняна, и мы уложили на нее зверя. Нинян не сопротивлялся. Он как бы смирился, и через минуту мы уже тащили его вниз по следу.
Несколько дальше мы увидели необычную картину: Кормильчик, сидя на толстой валежине, докуривал трубку. Вид у него был спокойный, а рядом в 20 метрах от него стояла матка. Услышав шорох, она вдруг повернулась к нам и, насторожившись, долго смотрела на наш груз, узнав в нем своего сына.
– Будем ловить матку, чего зря гонять ее, – сказал Петруха, когда мы, бросив ниняна, подошли к нему. – А вот с быком, не знаю, придется повозиться.
Когда мы стали окружать матку, чтобы поймать ее, она вдруг заволновалась, но не успела сделать и одного прыжка, как в воздухе взметнулся аркан Мищенко, и петля туго стянула ей шею. Одно мгновенье – и она вздыбилась, сделала огромный прыжок в сторону и, как обезумевшая, рванулась напролом по снежному целику. Она вырвала из рук Мищенко аркан, заскакала по снегу, но метров через 50 остановилась. Глубокий снег теперь для нее был непреодолимым препятствием. Мищенко подкрался, поймал конец аркана и задержал ее. Матка натянула аркан, захрипела, зашаталась и медленно свалилась в снег. Не теряя времени, промышленники засуетились около нее. Тут было на что посмотреть и даже позавидовать, как ловко и привычно они управлялись с ней. Матка сопротивлялась, отчаянно билась головой, вырывала ноги, но через 20 минут, связанная, уже лежала на коже.
– Ну, теперь бы с тем управиться, – сказал довольным тоном Кормильчик, подсаживаясь ко мне и выпуская изо рта тонкую струйку дыма. Отдыхая, он сделал из веревки узду, надел ее на голову матки и крепко притянул к ногам.
Мы вытащили свой груз на тропу, благо что она оказалась совсем близко. Мищенко сейчас же отправился за лошадью, чтобы на ней подтащить зверей к палатке, а мы с Кормильчиком ушли ловить быка.
Зверь, оставшись один, шагом вышел на соседний хребет и, добравшись до утесов, лег под старым кедром отдыхать. При нашем приближении он вскочил и, как бы встречая, сделал несколько шагов вперед. Он стоял на небольшой площадке, окаймленной с трех сторон отвесной скалой. От нашего взгляда не мог ускользнуть его воинственный вид. Он не собирался сдаваться, и скорее предупреждал нас, что силы его еще не покинули и что он готов обороняться. Его большие глаза, в которых играли отблески заходящего солнца, были полны решимости. Он грозно мотнул рогами и приготовился к прыжку.
– Смиришься, неправда, – бурчал Кормильчик. Он подал мне знак итти вперед, и мы, осторожно передвигаясь, преградили зверю выход с площадки. Бык заволновался. Он будто вдруг понял, что попал в западню. Одно мгновенье, и в нем как бы воскресла уснувшая сила. Он стремительно бросился вперед к нам и со всего размаха ударил рогом о кедр, за которым едва успел скрыться Кормильчик. Рог от удара у основания сломался и, описав в воздухе круг, упал на снег. Зверь отскочил назад. Теперь он стоял в профиль ко мне, расставив задние ноги. Горящий злобой взгляд был по‑прежнему полон решимости. Кормильчик, не торопясь, но все время с опаской поглядывая на зверя, снял котомку, достал аркан и набрал его небольшими кругами в руку. Затем он медленно вышел из‑за кедра и ловким броском поймал быка. Одно мгновенье – и зверь заметался по площадке, он бросился в одну сторону, в другую, но конец аркана Петруха успел захлеснуть за кедр, и зверь, до хрипоты затянув на шее петлю, упал в снег. Казалось, наконец‑то он сдался. Но вдруг бык вскочил и, подхваченный какой‑то неудержимой силой, рванулся к обрыву. Что‑то страшное, решительное блеснуло в его возбужденных глазах. Еще одно мгновенье, и мы видели, как он огромным прыжком бросился вперед. Аркан лопнул и зверь, свернувшись в комок, полетел в пропасть. Сейчас же снизу послышался грохот камней и треск сломанного дерева.
Мы спустились под утес и подошли близко к зверю. Он лежал комком, приваленный валежником и снегом. В его помутневших глазах теперь не было гнева и даже беспокойства. В них, как в зеркале, отображалось большое физическое страдание. Зверь умирал. Его дыхание становилось все реже, глаза скоро перестали закрываться, и мы видели, как погасла в них жизнь.
– Не покорился… – произнес тихо Кормильчик. Он достал кисет и, не торопясь, закурил.
В моей памяти остались надолго этот смертельный прыжок, черный неприветливый утес и умирающий на окровавленном снегу бык.
На другой день вечером мы добрались с живым грузом до маральника. Через час после того, как груженые сани въехали во двор, изюбры были освобождены, и мы видели, как они метались по маральнику.

Н. Устинович
СПИЧКА НА СНЕГУ
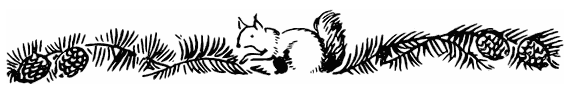
Во время завтрака Максимыч сообщил:
– На прошлой неделе вывез я в поле падаль, устроил лабаз. Думал – волки придут. А волков этой зимой и днем с огнем не сыщешь.
И, пряча в усах улыбку, добавил:
– Сегодня ночью лиса там была…
Я насторожился.
– Подкараулим? – предложил Максимыч.
– Конечно! – подхватил я.
– А приходилось тебе бывать на лабазе? – спросил охотник.
– Нет, – сознался я.
– То‑то! Слушай, что буду говорить, да на ус мотай.
И Максимыч начал посвящать меня в тайны охоты на лабазе.
– Самое главное – тишина. Кашлять и разговаривать нельзя, курить нельзя, ходить по снегу нельзя…
– Как же это не ходить? – перебил я.
Максимыч стукнул меня пальцем по лбу:
– Соображать надо! Зверь боится следов человека. А мы поедем верхом на конях, с седел заберемся на лабаз, кони же пойдут дальше. Понял?
Я кивнул головой, втайне досадуя, что сам не додумался до такой простой вещи.
На заходе солнца мы выехали из деревни. За спиной у Максимыча сидел сынишка Павка, – он должен был отвести коней обратно.
Долго ехали по полю, спустились к перелеску. Тут охотник молча показал в сторону: снег был прострочен ровным пунктиром лисьих следов.
В двух десятках шагов от падали росло несколько густых елок. Между ними был искусно замаскирован деревянный помост – лабаз. Мы взобрались туда, не слезая с седел.
И вот затихло вдали звяканье стремян, в сумерках расплылся горизонт. Среди елок прорезался рог луны. Мы остались одни среди тишины и безлюдья.
Максимыч долго усаживался, кутался в собачью доху, обламывал веточки. Я положил двустволку в развилину сучьев.
Подмораживало. Снег из розово‑белого превратился в светлосиний. В поле, на дороге слышался скрип полозьев.
– Хочется курить, – чуть слышно шепнул я.
Максимыч погрозил пальцем.
Время тянулось медленно. Затекли согнутые ноги, стала ныть поясница. Хотелось спрыгнуть вниз, походить по хрустящему снегу.
Поле и перелесок окутала ночь. Напрягая зрение, мы всматривались вперед. Я взвел курки, удобнее положил ружье.
Шли часы. Лисицы не было. Мы устали прислушиваться к случайным шорохам и уж не вздрагивали, когда мимо бесшумно проносилась сова.
– Не придет, – махнул рукой Максимыч и, прислонясь спиной к стволу дерева, задремал. Я последовал его примеру.
На восходе солнца подъехал Павка. Мы опустились в седла, с наслаждением стали на стременах.
– В чем же дело? – недоумевал Максимыч.
Отъехали в сторону, и нам сразу бросился в глаза свежий лисий след. Он тянулся прямо к падали, затем круто поворачивал и снова скрывался в перелеске.
– Чего‑то испугалась, – сказал Максимыч.
Он подумал, присвистнул и, оборачиваясь ко мне, укоризненно покачал головой:
– А еще охотник…
Я посмотрел вниз. Там, где лиса бросилась в сторону, на снегу лежала спичка.
– Ты? – спросил Максимыч.
– Да, – ответил я, вспомнив с досадой, что вчера вечером, закуривая по дороге, бросил там спичку.
– Лисица‑то хитрее вас оказалась, – весело хохотал Павка.
Анатолий Ольхон
ОХОТНИК
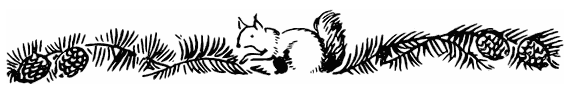
Рысьим мехом подбиты лыжи,
Тускло блещет ружейный ствол.
По тайге, за собакой рыжей,
Верст с полтысячи он прошел.
Снегопады, туман, метели,
Дымный полог ночных огней,
Крепкий сон в снеговой постели,–
Лихорадка счастливых дней.
Молодая звезда отважных
Поднималась в разломы гор;
Лыжный шаг в кедрачах коряжных
Прострочил голубой узор.
Хищнозубый проворный соболь
Трое суток следы мотал,
Черный мех его пулей добыл
И на выдровый след попал.
Не ушла от него добыча,
Не напрасно заряд губил:
Поднимая приклад привычно,
 2020-06-12
2020-06-12 91
91








