Именно такой — лирический — тип организации повествования эксплуатирует Б. Пильняк, прежде всего, в романе «Голый год», хотя для него эта манера оказывалась наиболее продуктивной на протяжении всей его творческой жизни, проявляясь и в «Красном дереве», и в «СГкей», и даже в «Повести непогашенной луны». «Голый год» лишен сюжета, строится по принципу рифмовки образов, их ассоциативной скрепленности. Весь роман пронизывают центральные образы-символы: метель, характеризующая общее неприкаянное состояние мира; солдатские пуговицы, которые по принципу метафорического взаимодействия с другими образами обращаются то в глаза, то вообще закрывают собой лицо персонажа; кожаные куртки — образ, созданный по принципу метонимии и ставший одним из центральных.
Орнаментальному стилю подчинена и вся архитектоника романа: чередование глав и триптихов, характеристика в оглавлении «тональности» частей триптиха («самая светлая» и «самая темная»), нарочитое обнажение приема, которое обусловлено стремлением показать как бы незаконченность романа, его принципиальную незавершаемость, разорванность, в которой отразились разорванность и незавершенность самой эпохи: «Глава VII (последняя, без названия)», или «Триптих последний (Материал, в сущности)», «Вне триптиха, в конце».
|
|
|
Подобный принцип стилевой организации текста давал возможность Пильняку сделать его максимально полифоничным: роман как бы впитывает в себя голоса, звучащие в Китай-городе или в Ордынине городе, оказывается способным включить в себя без какой бы то ни было сюжетной мотивировки страницы летописи или частушку, отрывок газетной статьи и фрагмент философского сочинения «Бытие разумное, или Нравственные воззрения на достоинства жизни», автором которого является герой романа Семен Матвеев Зилотов.
К орнаментальной прозе обращается и М. Булгаков в романе Белая гвардия». Именно орнаментализм как проводник элементов импрессионистической поэтики давал возможность писателю как можно более полно воплотить проблематику своего романа. Изображая «драму субъективно честных людей, втянутых в кровавую авантюру», Булгаков противопоставляет хаосу исторических катаклизмов «идиллию внутрисемейной жизни Турбиных»: «Простым, ежедневным отношениям Турбиных М. Булгаков стремится придать особый смысл»236. Поэтому столь велика роль деталей, характеризующая их домашний мир: печь со старинными изразцами, кремовые шторы, голубые гортензии, «красного дерева бронзовые пастушки на фоне часов, играющие каждые три четверти часа», мебель красного бархата, «чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок». «Все эти детали домашнего обихода, — отмечает современный исследователь, — становясь лейтмотивами повествования, призваны «приподнять» простые родственные отношения, романтизировать семью как воплощение гармонии и устойчивости»237.
|
|
|
Эстетика орнаментальной прозы как раз и дает Булгакову возможность сделать скрепами бытия эти детали домашнего уюта; в мире, где сломаны все социальные связи, в мире, который перед писателем и перед героями предстал как страшный кровавый хаос, как бесприютная степь, где даже ветер на все лады выводит имя Петлюры, лишь дом воплощает надежность, незыблемость, вечность. Выход из его стен сулит гибель. Поэтому, построив свой роман на принципах поэтической прозы, художник смог изменить пропорции реального, представив хрупкое и беззащитное, скажем, старинные часы или изразцы печи, как опору, дающую воз-
236 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа.
М., 1985. С. 60-61.
237 Там же. С. 61.
■
Модернизм
Стилевая организация модернистского романа
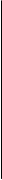
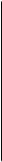
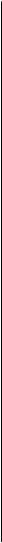
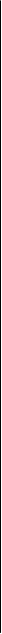
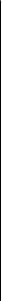
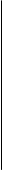
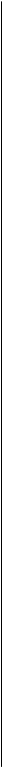 можность личности не потерять себя в страшную эпоху русской смуты. Булгаков прибегает к приему, характерному для орнаментализма, как бы меняющего местами значимое с незначимым. Именно лейтмотивный принцип организации повествования и превращение обыденных, казалось бы, явлений, предметов, даже имен в широкие образы-символы, дают возможность воплотить в романе идиллическое жанровое содержание и в то же время включить идиллию в исторический контекст и противопоставить ее кровавому хаосу анархии.
можность личности не потерять себя в страшную эпоху русской смуты. Булгаков прибегает к приему, характерному для орнаментализма, как бы меняющего местами значимое с незначимым. Именно лейтмотивный принцип организации повествования и превращение обыденных, казалось бы, явлений, предметов, даже имен в широкие образы-символы, дают возможность воплотить в романе идиллическое жанровое содержание и в то же время включить идиллию в исторический контекст и противопоставить ее кровавому хаосу анархии.
Разумеется, такими широкими образами-символами становятся не только приметы домашнего уюта. Литературные и общекультурные реминисценции играют в контексте романа роль лейтмотивов. «Белую гвардию» пронизывает тема Апокалипсиса, его центральные образы включены в ткань повествования, его проблематика ассимилируется романом: это и мысли о вселенском масштабе происходящего, идея о личной ответственности каждого за свои деяния, и трагическая мысль о конце одного мира и начале нового. Из литературных источников для «Белой гвардии» наиболее существенны темы «Капитанской дочки» Пушкина. Центральные образы и сюжетные ходы переосмыслены писателем, включены в романную полифонию и аранжированы в ней. Такое цитирование классических текстов, подключенность к общекультурным источникам также характеризует орнаментальную прозу.
Если Б. Пильняк в «Голом годе» и М. Булгаков в «Белой гвардии» обращаются к орнаментальным принципам организации повествования, создавая импрессионистическую эстетику, то продуктивность поэтической прозы для экспрессионизма демонстрирует роман Ю. Олеши «Зависть».
Ю. Олеша решает сложные социально-психологические коллизии времени: он стремится сопоставить крайности той концепции личности, что была предложена литературой 20-х годов. В образе Андрея Бабичева воплощен крайний утилитаризм, характерный для эстетических построений ЛЕФа, Пролеткульта, РАПП. Герой воплотился в своего роду «функцию» дела. В художественном мире романа ему противостоит его брат, Иван Бабичев, который стремится к утверждению мира чувств в противовес рациональному голому расчету. Проблематика романа, обусловленная этим конфликтом, заставляет Олешу обратиться к поэтическим принципам организации текста. Это оказывается связанным с тем, что текст организован не объективно, что характерно для эпического рода литературы, а сориентирован на воспринимающее сознание «с его 234
ассоциативностью, смещением временных пластов, свободным передвижением в пространстве, сменой ракурсов, сближением «далековатых» явлений». Это заставляет исследователя констатировать, что «повествование в «Зависти» тяготеет к лирическому типу изображения с присущими способами увеличения внутреннего объема текста», что внутри него «создаются условия «художественной тесноты», подобные «тесноте стихового ряда», что связано «с использованием принципа повтора, в частности «рифмовки»238. Этому принципу подчинено соотношение двух частей романа, которые как бы отражаются друг в друге: образ-символ зеркала, появляясь в конце первой части, «мотивирует зеркальный прием в композиции произведения: вторая часть не столько углубляет и развивает действие первой... сколько повторяет многие положения и мотивы, углубляет их, превращает драму в комедию»239. Субъективный, лирический принцип организации повествования, связанный с ориентацией на субъективное сознание героя (Кавалерова в первой части и Ивана Бабичева во второй), заставляет сокращать систему персонажей. Она строится по принципу пар-антиподов, выражающих крайние представления о сущности человеческой личности, существующие в общественном сознании 20-х годов (Андрей Бабичев — Иван Бабичев, Володя Макаров — Николай Кавалеров, Валя — Анечка Прокопович). Центральные образы-лейтмотивы, такие, как Четвертак, дешевая общественная кухня, или Офелия, фантастическая машина, созданная для разрушения трезвого мира делового расчета, подушка, с которой не расстается Иван Бабичев, символизирующая домашний уют и покой, колбаса и черемуха, создают композиционное единство романа.
|
|
|
Организация текста по поэтическим принципам дает возможность Олеше не столько прямо и объективно изобразить действительность, сколько заострить и довести до предела крайние позиции в общественном сознании эпохи. Пренебрежение исконными общечеловеческими ценностями, утилитаризм, рассмотрение человека как придатка к огромному идустриальному механизму отвергаются Олешей, нарочито снижаются. В результате конечной целью такого человека, смыслом его жизни становится вкусная и дешевая колбаса или гигантская общественная кухня, которые в поэтическом контексте явно трактуются как низменные устремле-
|
|
|
238 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа.
С. 81.
239 Там же. С. 81-82.
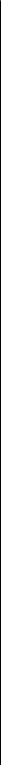

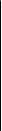
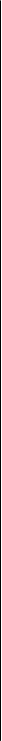 Модернизм
Модернизм
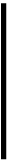 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
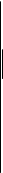 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||

|
ния. Экспрессивное отрицание таких позиций оказывается возможным благодаря орнаментализму, создающему особую систему координат, в которых традиционные ценности, воплощенные, например, в образе-символе черемухи, о которой мечтает Кавалеров, сталкиваются с явлениями, недостойными поэтического контекста (кухня, колбаса). Но и чувственность Кавалерова или Ивана Бабичева не является выходом из тупика, в котором оказалось общество, строящее Четвертак, по крайней мере, они совершенно бессильны перед ним, а машина Офелия — лишь плод воображения героя. И та и другая позиции трактуются ущербными. Возможен ли их синтез?
В романе Олеши синтез не намечается, да и вряд ли художник видел в этом свою цель. В его задачу входила, скорее, констатация неудовлетворительности и неполноты той и другой позиции, что характерно для экспрессионистической эстетики, направленной на выражение, как можно более зримое и гротескное определенной идеи. Модернистская эстетика лишь фиксирует несовершенство общественной жизни, ставит и заостряет проблему. Ее разрешение — задача эстетики реалистической.
 2014-02-17
2014-02-17 445
445








