Способность к труду при аномалиях развития личности
В работе В. Н. Мясищева «Личность и труд аномалийного ребенка» (1936) были выделены качественно разные виды нарушений трудоспособности, требующие особых коррекционных воздействий.
1. При органических поражениях мозга (первая группа аномалии), в частности при олигофрении, трудоспособность ограничивается дефектом познавательной сферы, границами обобщений, ограниченностью интеллектуальных операций.
2. Вторая группа аномалий развития — психопатии и невропатии, связанные с конституциональными предпосылками болезненности, имеющими психодинамическую основу (неустойчивость эмоциональной сферы, повышенная возбудимость и пр.). К природным предпосылкам могут добавляться неблагоприятные социальные условия развития.
3. Третья группа аномалий связана с дефектами органов чувств (слепота, глухота, их сочетания). Трудоспособность оказывается ограниченной в разной степени в зависимости от того, в каком возрасте ребенок лишается полноценной чувствительности.
4. К четвертой группе относятся аномалии личности, обусловленные историей развития, особенностями социальной среды, формирующими социогенные варианты неврозов, или детей с трудным характером в результате неправильного семейного воспитания или беспризорности. Это форма социальной запущенности. Трудоспособность таких детей обусловлена несформированностью положительного отношения к труду, отсутствием общетрудовых навыков (самоорганизации, самоконтроля, планирования деятельности), непосредственным способом удовлетворения потребностей. Однако такие формы аномалий личности и дефекты трудоспособности в принципе поддаются коррекции и перевоспитанию.
5. Смешанные формы нарушений трудоспособности.
Проблема психологии трудотерапии психически больных - пограничная для психологии труда и клинической психологии. Психологическая теория и практика трудотерапии составляют раздел психологии труда, так как это направление, в котором изучается «труд как фактор развития и восстановления» (Геллер-штейн С. Г. и др., 1965).
В отношении психически больных врачи и психологи выделяют несколько уровней социально-трудовой реадаптации (т.е. восстановления больного после перенесенного болезненного периода):
1) профессиональная реадаптация (возврат к прежней профессиональной деятельности, когда коллеги «дефект не замечают»);
2) производственная реадаптация (возврат к труду, но при снижении квалификации);
3) специализированно-производственная реадаптация (возврат на производство, но на трудовой пост, специально приспособленный для лиц с нервно-психическими дефектами в особых щадящих условиях);
4) лечебно-производственная реадаптация (доступна лишь работа во внебольничных лечебно-производственных мастерских, когда у больного сохраняются стойкий дефект работоспособности либо патология поведения);
5) внутрисемейная реадаптация (выполнение домашних обязанностей);
6) внутрибольничная реадаптация (при глубоких дефектах психики).
Задачи трудотерапии заключаются в том, чтобы больной достиг максимально высокого, доступного для него уровня реадаптации.
Опыт 30-х гг. XX в., когда в психиатрических клиниках вводилась терапия занятостью в самых простых формах (больным предложили клеить бумажные аптечные пакеты), оказался весьма эффективным.
Геллерштейн видел суть целебных сторон ручного труда в том, что этот вид деятельности обладает такими весьма ценными признаками, как:
1) соответствие человеческим потребностям;
2) целевой характер деятельности;
3) мощное воздействие упражнения;
4) мобилизация активности, внимания и т.д.;
5) необходимость приложения усилия, напряжения;
6) широкие возможности компенсации;
7) преодоление трудностей и препятствий, возможность регулирования их и дозировки;
8) включение в жизненно полезный ритм;
9) результативность, предпосылки организации обратной связи и совершенствования функций;
10) благодарное поле для отвлечения, переключения, смены установки;
11) рождение положительных эмоций — чувства удовлетворения, полноценности и др.;
12) коллективный характер труда (Геллерштейн С.Г., 1965,с. 16-19).
Трудотерапия, однако, может помогать или ухудшать состояние больного, это зависит от его состояния, используемой формы труда, дозировки трудовых занятий, формы организации труда и его содержания. Так, трудотерапия абсолютно противопоказана при острых болезненных состояниях, сопряженных с расстройством сознания; при кататоническом ступоре; при соматических тяжелых заболеваниях; временно противопоказана во время активного медикаментозного лечения; при выраженных депрессиях и астенических состояниях. Относительно противопоказана трудотерапия для больных с явно отрицательной установкой на труд (при острой психопатологии). Во всех этих случаях нужен индивидуальный подход к личности больного.
Опыт психологически обоснованной трудотерапии психически больных, накопленный под руководством С. Г. Геллерштейна более чем за 30-летний период его практики в разных клиниках, был отражен в книге «Принципы и методы трудовой терапии психически больных» (М., 1964), написанной совместно с И. Л. Цфасманом. Авторы придерживались двух основных принципов использования трудотерапии.
1. Труд больных должен быть результативным и больной должен видеть результаты своей деятельности. Этот принцип часто нарушался: например, инструктор предлагала больным заниматься вязанием в палате, но не отмечала индивидуального характера работы. Предмет труда и орудия вязания убирались на ночь (видимо, чтобы больные не поранили себя и других). Утром инструктор могла дать больной не ее начатую варежку, а чей-то недовязанный носок.
2. Необходим индивидуальный учет выработки больных. Только в этом случае можно контролировать эффект трудотерапии.
Трудовая терапия при галлюцинаторном синдроме
Пример. Больной шизофренией со слуховыми галлюцинациями продуктивно и систематически плел корзины в лечебно-трудовых мастерских, но галлюцинации даже не ослабевали. Его перевели на разработку торфа, требующую большого напряжения сил при норме выработке здорового человека. Через 1,5 — 2 месяца «голоса» стали слышаться реже. Больной стал другим человеком: оживленным, подвижным, более общительным, заявлял, что чувствует себя прекрасно, «голоса» слышит редко, причем «они стали тихими, еле слышно», а главное — «они говорят исключительно в положительную сторону, чтобы хорошо работалось, быть веселым» и т.д., причем сам больной считает эти положительные сдвиги в свое состоянии результатом именно той «настоящей работы», какой явилась добыча торфа» (Геллерштейн С. Г., Цфасман И.П., 1964, с. 90).
Пример. Больная шизофренией (галлюцинаторно-параноидальная форма) чувствовала в себе присутствие посторонних «существ», боролась с ними прижиганием горящей сигаретой, била себя кулаком, кричала. С помощью метода наблюдения в течение трех часов работы и трех часов отдыха, было установлено, что количество реакций больной на галлюцинаторные «раздражители» снижалось более существенно при поливе огорода (38 случаев) и прополке (83 случая), чем в условиях отдыха — при починке белья (289 реакций).
Вывод. При активном включении больных в трудовые процессы галлюцинаторные переживания ослабевают. Но это возможно при условии, что труд должен быть напряженным, активным и мало поддающимся автоматизации (т.е. требующим непрерывного сознательного контроля, мобилизованности внимания, разнообразной динамической интенсивной работы). Механизм лечебного действия труда — подавление патологической доминанты созданием новой доминанты — трудовой. Больные страдают не столько от самих галлюцинаций, сколько от поглощенности психики этими переживаниями. Активный труд уменьшает эту поглощенность, наполняя психическую жизнь больного новым здоровым содержанием.
Трудовая терапия при депрессивных состояниях
Пример. Больная 3. (52 года) находилась в Тихвинской психиатрической колонии шестой год с диагнозом шизофрения. Была замкнута, угнетена, часто плакала, большую часть дня лежала в постели, укрывшись с головой, часто отказывалась от пищи. Летом начали трудотерапию. Во время беседы говорила, что все кругом давит, что не хочет видеть людей, свет, поэтому закрывает голову полотенцем. Просила не называть ее по имени, ибо она этого не достойна. Долго отказывалась от всякой работы. Какую работу ей предложить? Работать в поле — нельзя, жарко, состояние и без того тяжелое. Клеить пакеты? Это не отвлечет от тягостных переживаний. Вязать, вышивать — не умеет, нужно учить, продуктивный труд отодвинут надолго. Оказалось, что больная умеет прясть, (на «самопряхе»). Для нее специально привезли в больницу «самопряху». Это работа живая, динамичная, знакомая и при этом индивидуальная, нет необходимости общаться с другими людьми. 14.04.1950 г. — качество работы низкое, затем постепенно улучшалось. 16.04.1950 г. — тяготится бездельем: «Я жду не дождусь, пока мне дадут работу, мне тяжело без работы, даже грудь разрывается». На восьмой день повязывает голову платком, а не полотенцем. Глубокая тоска уступает место ровному настроению. Работает все время без перерыва, адекватно реагирует на все происходящее вокруг. Через некоторое время встал вопрос о ее выписке. Больная просит помочь вернуть ей ее домик, занятый на время болезни родственниками. Стала целеустремленной, активной, поехала вКрасноярск добиваться помощи от прокуратуры.
Вывод. Положительный эффект при депрессиях от трудотерапии возможен при ее смешанных формах (не только эндогенной, но и социогенной), без выраженной двигательной заторможенности. Таким больным важно отвлечься от тягостных переживаний, дать надежду на выздоровление, создать доминанту для отвлечения от тревожных мыслей. Труд должен быть не тяжелым, не связанным с ответственностью, не коллективным, а индивидуальным (так как общение с другими людьми — тяжелая нагрузка для больного с депрессией), позволяющим оценивать продуктивность и чередовать разные формы работы. Работа должна опираться на привычные навыки, важно показать больному его полноценность, пригодность к осмысленной полезной деятельности. От инструктора по трудотерапии необходимы наблюдение и тактичная помощь, но не опека.
Трудотерапия при двигательной заторможенности
Пример. Больной Б., диагноз: шизофрения, кататоническая форма. Целый день лежит в постели в однообразной позе, действия импульсивные, агрессивен, неконтактен. Его упорно привлекали к труду — стал ежедневно участвовать в индивидуальном труде по наружным работам под руководством медсестры. В психическом состоянии замечены некоторые улучшения. Но когда его включили в состав бригады больных (12 — 15 человек), состояние больного резко ухудшилось, опять проявляется агрессия, застывает в одной позе. Коллективная работа оказалась ему непосильной. Перевели в бригаду из четырех человек — поведение улучшилось. Но опять наступило ухудшение, когда к нему прикрепили в качестве партнера активного, хорошо работающего больного.
Вывод. Партнером по работе может быть лишь больной, незначительно превосходящий по активности, либо инструктор по труду.
Психологи делают вывод о том, что в трудотерапии важно отслеживать трудовые возможности больного в каждый момент времени, соблюдать постепенность, ступенчатость в увеличении нагрузки, избегать ситуации демонстрации больному его недостатков. Предлагается метод рабочих проб: инструктор некоторое время работает вместе с больным на спаренной работе, выделяет свойственные больному ритм, темп движений, стиль его работы, характерные недостатки и т.д.
Для активизации речи больных инструктору по труду, врачу, медсестре рекомендуется активно вызывать ответную речь больного и организовывать труд так, чтобы речь была необходима, включать больного в культурные мероприятия, спорт, игры, стимулирующие речевую активность (там же, с. 79). Таким образом, трудотерапия должна быть не единственной универсальной формой восстановительно-реабилитационной активности, но звеном в системе реабилитационных мероприятий.
Трудотерапия при олигофрении
Психологам удалось экспериментально доказать, что комплексная социально-реабилитационная программа обеспечивает возможность личностного развития больных, страдающих олигофренией, и перехода их на более высокую ступень социально-трудовой реадаптации. Инвалиды (олигофрены) из интернатов реабилитационного профиля (при одинаковом медицинском диагнозе) проявляли себя в большей степени как здоровые люди: они не только быстрее и качественнее справлялись с тестом, но и работали более продуктивно, если в качестве награды предлагались похвала перед коллективом, экскурсия в город, в кино. Инвалиды из интернатов госпитального профиля предпочитали наглядно-действенные стимулы — конфету, игрушку.
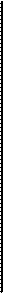
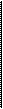 Общий вывод состоит в том, что если для каждого больного, страдающего психическим заболеванием, подобрать индивидуально, терпеливо подходящий вид труда, можно существенно улучшить состояние больного после медикаментозного лечения, снизить выраженность патологических симптомов, восстановить в известной мере его активность, поддержать в личности больного ее человеческие, социальные качества.
Общий вывод состоит в том, что если для каждого больного, страдающего психическим заболеванием, подобрать индивидуально, терпеливо подходящий вид труда, можно существенно улучшить состояние больного после медикаментозного лечения, снизить выраженность патологических симптомов, восстановить в известной мере его активность, поддержать в личности больного ее человеческие, социальные качества.
Трудоспособность лиц преклонного возраста
Для психологии труда интересен опыт психологов, исследовавших формы деятельности, общения и состояния психических функций у лиц преклонного возраста, инвалидов по возрасту, оказавшихся без помощи близких и проживавших в домах-интернатах (при отсутствии психопатологии и грубых возрастных склеротических изменений).
Стадии старения:
1. На первом этапе старения возможен (как ведущая деятельность личности) общественно-полезный труд, работа на садовых участках, в библиотеке, в мастерских. При такой форме активности сохраняется прежний социальный статус, жизненный и профессиональный опыт. Общение может быть полноценным, эмоционально окрашенным, особенно у тех людей, которые включены в группы, имеют друзей.
2. На втором этапе старения оказываются те люди, у которых нет систематических занятий трудом, нет постоянных общественных обязанностей. Их ведущей деятельностью оказывается досуг, межличностное общение, в котором пожилой человек старается утвердить себя. Он стремится к обмену информацией, сопереживанию, воздействию на собеседников, адаптации их поведения в своих интересах. Общение сворачивается и становится монологичным, что является признаком нарушения способности к эмпатии и избирательности. Как только эти явления начинают прогрессировать, общение перестает быть целенаправленной деятельностью.
3. На третьем этапе старения в центре внимания оказывается собственное здоровье и ведущей становится деятельность по его сохранению. Этот этап особенно выражен у лиц, которым тяжело двигаться, ограничена подвижность. Их активность в основном связана с самообслуживанием. Люди отказываются от полезной продуктивной деятельности и несложных поручений, ибо все свои силы тратят на борьбу с плохим самочувствием, стараются не утомлять себя лишними разговорами, не смотрят телевизор, не читают. Общение становится ситуативным и формальным, личностную значимость сохраняют только медперсонал и люди, которые могут быть полезны в обслуживании. Основное содержание сознания — тревога, связанная с ухудшением здоровья.
4. На четвертом этапе старения находятся престарелые, нуждающиеся в обслуживании. Какая-либо целенаправленная деятельность, проявления эмоциональности отсутствуют. Общение становится незначимым. В поведении преобладают отгороженность, пассивное созерцание реальности, аутичность; воспоминания не направлены, стихийны. Человек доволен жизнью, если ему тепло, чисто и есть пища. В самосознании отсутствует представление о своем уме, характере. Личность утрачивает свои социальные качества.
5. На пятом этапе старения находятся сильно одряхлевшие престарелые, постоянно пребывающие в постели и нуждающиеся в уходе. Им сложно последовательно изложить факты своей биографии, теряется личностное отношение к своему прошлому, правда, эпизоды ранней жизни они могут вспомнить и эмоционально рассказать с подробными деталями. Основное содержание внутренней жизни 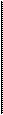
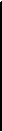 составляет багаж памяти. Люди на этой стадии становятся безучастны и равнодушны к происходящему, у них угасают ориентировочные реакции, типично отстранение от своего Я, распадается ценностно-смысловая ось личности, самосознание, личность почти разрушена. В основе непрерывного процесса старения, с точки зрения В.В.Болтенко, — постепенное утрачивание предметности мотивационной сферы.
составляет багаж памяти. Люди на этой стадии становятся безучастны и равнодушны к происходящему, у них угасают ориентировочные реакции, типично отстранение от своего Я, распадается ценностно-смысловая ось личности, самосознание, личность почти разрушена. В основе непрерывного процесса старения, с точки зрения В.В.Болтенко, — постепенное утрачивание предметности мотивационной сферы.
Описанные феномены угасания психики человека и ее высших форм проявляются особенно остро в условиях дома-интерната, вне близких, семьи. Возможно, это форма явлений «госпитализма» стариков, похожих по своим истокам на госпитализм младенцев в домах ребенка.
На первом этапе старения главные переживания человека связаны с осмыслением снижающейся способности к труду, поэтому в порядке самозащиты выстраивается завышенная самооценка социального значения всей прожитой жизни. Нарастает некритичность.
На втором этапе и далее способность к эмпатии снижается, общение становится неэффективным. В качестве защитного механизма выступают черты характера, индивидуальности: человек гордится своим умом, сохранностью органов чувств, способностью общаться.
На последующих этапах старения прогрессирует некритичность, нарушается смысловая сфера и самооценка уже не выполняет защитной функции. На ранних этапах старения, когда привычная трудовая деятельность неэффективна, доминирующими становятся новые виды деятельности. Но идет процесс сужения смысловой сферы, прежние смыслы «отмирают» и это признаки естественного, нормального постепенного старения без патологии личности. В целом смысловая система и процессы смыслообразования являются основным резервом компенсации и адаптации в старости. Видимо, именно процессы смыслообразования могут служить и самыми тонкими индикаторами наступающих ранних стадий старости, что чрезвычайно важно как для прогнозирования профессиональной продуктивности персонала организации, и особенно топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов, на плечах которых держится обычно фирма, так и для психологической помощи людям преклонного возраста.
 2014-02-09
2014-02-09 2821
2821








