Основная ось природного каркаса острова Анзер образована ложбинами
стока, озёрами и проходит в широтном направлении через центральные рай-
оны острова. Её ведущая роль обусловлена тем, что с ней связан основной внут-
риостровной вещественно-энергетический обмен по линиям стока — обмен,
связующий весь территориальный комплекс острова. На основной оси природ-
ного каркаса находятся узловые морфоструктуры, выраженные в рельефе хол-
мами, а также образованные при пересечении с линиями основных разломов и
блоковыми поднятиями. Именно в таких местах разместились два скита, Елеа-
зарова пустынь, Капорский хозяйственный комплекс.
Особенности размещения православных сакральных центров на острове
могут иметь различные объяснения. Мистическое понимание будет исходить из
мифологии, предания, из явленных основателям скитов (Елеазару Анзерскому
и Иисусу Голгофскому) видений. Исследователь-прагматик найдёт множест-
во планировочных и функциональных удобств, определивших место выбора
центров религиозной и хозяйственной деятельности. Инженера-геолога, на-
против, удивит выбор для строительства сакральных объектов тектонически
активных зон, создающих проблемы для инженерных конструкций. Мы же об-
ратим внимание на то обстоятельство, что при наличии вышеназванных резо-
нов, центры культурной деятельности жёстко совмещены с узлами природного
каркаса, и возникновение новых центров можно прогнозировать. В истори-
ко-культурном пространстве, как и в природном ландшафте, есть свои центры
активности и соединяющие их планировочные оси. Историческая преемствен-
ность и жизнеспособность этих центров должна зависеть, в том числе, и от со-
ответствия их размещения строению природного каркаса.
|
|
|
Оси культурного каркаса (планировочные оси) достаточно монотипны:
это, главным образом, исторические пути, а на Анзере — монастырские доро-
ги, которые нередко совпадают с осями природного каркаса, особенно если по-
следние — долины ручьёв или ложбины стока. В других случаях размещение
линейных структур культурного каркаса подчинено чисто планировочным со-
отношениям.
Культурные и хозяйственные центры Анзера полностью совмещаются суз-
ловыми структурами природного каркаса, причём с теми из них, которые имеют
Культурный ландшафт как объект наследия
достаточно уникальное строение. Так, Свято-Троицкий скит находится в
месте, где центральная ось природного каркаса выходит в глубоко врезанный
морской залив, являющийся как бы морским продолжением этой оси. В отно-
шении геоэнергетического обмена это очень важное местоположение, контакт-
ная зона двух ведущих осевых структур — центральной и маргинальной (бере-
говой). Сюда благодаря искусственной гидросети подведён сток со значитель-
ных площадей, что усилило гидроэнергетический потенциал ландшафта. Здесь
проходят основные глубинные разломы. Культурное освоение повлекло за со-
бой изменение типа геосистемы — из транзитно-аккумулятивной она стала
преимущественно транзитной (заболоченная морская терраса преобразилась в
дренируемые луговые угодья). Дренажные и водохозяйственные канавы и кана-
лы, окружающие храмово-келейный корпус, образовали замкнутое на Троиц-
кий залив полукольцо и создали молитвенному месту символическое водное
ограждение, что важно для мистического восприятия защищённого историко-
культурного пространства. Храмово-келейный корпус стал высотной доминан-
той ландшафта. В результате культурно-религиозный центр не просто занял уз-
ловую структуру природного каркаса — он трансформировал её. Именно по-
этому природно-культурный каркас — целостная система, а не простое слагае-
мое природной и культурной составляющих.
|
|
|
Свято-Троицкий скит стал планировочным центром и своеобразным
транспортным узлом, где сходятся все основные анзерские дороги. Заметим,
что частично они сопровождают центральную ось природного каркаса, которая
таким образом становится и основной планировочной осью.
Центральная ось природного каркаса, как уже отмечалось, была преобразо-
вана через создание искусственной гидросети, объединившей отдельные озёра и
увеличившей поверхностный сток в море. Изменилась гидрологическая ритмика
ландшафта. Возросла функциональная роль центральной оси каркаса, измени-
лись её морфоструктура и генезис — это уже не природное, но природно-куль-
турное образование.

|
Голгофо-Распят-
ский скит занимает узло-
вое положение на цент-
ральной оси каркаса, вы-
деляющееся благодаря
разломной тектонике и
высотным градиентам.
Ранее отмечалось, что го-
ра Голгофа — одна из са-
мых высоких отметок
рельефа на Анзере, но не
самая высокая даже из
тех, что образуют узло-
вые структуры на цент-
ральной каркасной оси.
| Луговые угодья Свято Троицкого Анзерского скита с радиальной мелиоративной системой — в стадии зарастания (фото М. Кулешовой) |
Однако это единствен-ное место с подобными
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
высотными амплитудами: перепад высот между вершиной горы и озером у её
подножия составляет 52 м. Для сравнения приведём наиболее близкие аналоги:
между урезом воды оз. Кирилловского и высотой у его восточного побере-
жья — 31,5 м; между урезом воды оз. Вербокольского и одноимённой вершиной,
самой высокой на острове,— 21 м. Значения так называемой энергии рельефа (Ло-
патин, 1995) в районе скита должны быть исключительно высокими. Строитель-
ство храма на вершине горы увеличило высотные амплитуды ландшафта, по-
влияло именно на его каркасные функции. Гидромелиорация прилегающих логов
изменила режим стока, усилив его. Отметим наличие мало заметной теперь канав-
ки, проходящей у северного подножия горы, среди спелого зеленомошного ель-
ника, в мелиорациях не нуждающегося. Она соединяет два дренируемых канала-
ми лога, выходящих с запада и с востока от г. Голгофы к оз. Банному. По-видимо-
му, канавка просто «замыкает», как и на Свято-Троицком скиту, своеобразный
круг каналов и канав вокруг скита, выходящий на озеро, что может рассматри-
ваться как семантический аспект воздействия на ландшафт.
Из других узловых местоположений, освоенных монастырской культурой
в пределах центральной осевой структуры каркаса и приобретших природ-
но-культурный генезис, следует назвать хозяйственный комплекс оз. Капорско-
го. По своим геоэнергетическим особенностям и функциям это место во мно-
гом аналогично ландшафту Свято-Троицкого скита, и здесь обязательно дол-
жен был возникнуть какой-то хозяйственный комплекс. Его описание было
дано выше. Но аккумулятивные процессы выполняют здесь более значимую, в
сравнении с транспортирующими функциями, роль из-за небольших значений
энергии рельефа, хотя искусственная гидросеть и мелиорация усилили транс-
портирующие функции ландшафта. Капорский комплекс находится как бы в
центре острова, сообщаясь и с западом через озёрно-канальные системы, и с
востоком через ясно выраженные древние ложбины стока, и с южным морским
побережьем, имея сбросной канал в Капорскую губу. Комплекс интересен своей
ключевой гидрологической ролью, сообщаясь с различными бассейнами стока.
|
|
|
Наряду с центральной осью в природно-культурном каркасе Анзера выде-
ляются, как отмечалось, иные оси, соподчинённые центральной и выполняю-
щие вспомогательные функции. Они аналогичны центральной оси по своему
происхождению, то есть образованы болотными логами и озёрными котлови-
нами, объединёнными в единую гидрологическую систему. На одной из таких
осей в западной части острова сформировался достаточно уникальный узел,
представленный эволюционировавшим ландшафтом конечной морены. Его
характеристика приведена в ландшафтном описании. Каркасная ось, берущая
начало от оз. Святого, образует своеобразную петлю по озёрной гирлянде
Щучье — Трегубое — Белое, а затем выходит логами и распадками к Святому
колодцу, водный сток от которого направляется к Троицкой губе, то есть опять
выходит на основную каркасную ось. По месту узла (гирлянде озёр) проходит
значимая и хорошо выраженная граница между морским и водно-ледниковым
типами рельефа, её фиксирует высотный барьер. Благодаря кольцевой плани-
ровке, гирлянде озёр и окаймляющему высотному барьеру здесь наблюдается
редкое сочетание каркасных функций — аккумулятивной, транспортирующей
и автономно-распределительной.
Культурный ландшафт как объект наследия
|
|
|
К северо-восточной окраине оз. Святого выходит ещё одна соподчинённая
каркасная ось с несколькими узловыми структурами, одна из которых — окрест-
ности оз. Вербокольского с расположенным здесь самым высоким на острове
холмом (88 м н. у. м.). Однако духовно-религиозных и хозяйственных центров в
Вербокольском секторе острова возникнуть не могло, несмотря на то, что куль-
турное освоение ландшафта имело место. Здесь селились монахи-пустынники, о
чём свидетельствуют топонимы, водохозяйственные каналы, садки, устанавли-
ваемые на высотах (г. Вербокольcкая) поклонные кресты. Однако каркасная ос-
нова не отличается структурностью, территория раздроблена (холмы и распад-
ки), слабо проявляются взаимодействия с другими геоструктурами острова. Она
предрасположена к тому, чтобы на ней можно было «затеряться».

|
Выше были показаны примеры узловых структур природно-культурного
каркаса, где культурное освоение сопровождалось воздействием на ведущие
функции геосистемы. Но социокультурная деятельность, тяготея к ключевым
местоположениям в геосистемах, во многих случаях не влияла на их функцио-
нальные характеристики, а просто использовала их как необходимое условие
достижения поставленных целей. Так, для второй особо значимой оси карка-
са — маргинальной (береговой) — характерными каркасными узлами являются
мысы. О них уже говорилось при описании языческих сакральных комплексов.
Что заставляло носителей языческой культуры избирать именно мысы? По-ви-
димому, то же, что заставляет строить храмы на высоких холмах, высотных сту-
пенях и барьерах — не только приметное ситуационное положение, но и особая
энергетика узловой структуры ландшафта. На мысах — особая активность нео-
тектонических движений, абразионных процессов, морских течений, особые вет-
ровой, влажностный и температурный режимы, определяющие высокую интен-
сивность обменных процессов. Конечно, не следует забывать и чисто прагмати-
ческие факторы — просматриваемость, доступность, проветриваемость и пр.
Природный каркас Анзера образован структурами, «ответственными» за
геоэкологическое состояние всего островного комплекса. Следовательно, его
культурное освоение означает включение всей островной геосистемы в исто-
рико-культурное про-
странство, а его преоб-
разование в природно-
культурный каркас де-
монстрирует разнооб-
разие форм и методов
гармоничного взаимодо-по-лняющего развития культуры и природы, если культура имеет достаточ-ный созидательный потенциал.
| Троицкая спасательная станция (фото В. Скопина) |
Учёт факторов гео-
системного развития по-
могает раскрыть важные
особенности формирования
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
культурного ландшафта Анзера, особенно в условиях, когда многие его ис-
торические памятники утрачены или руинированы. Определённые типы куль-
турного ландшафта тяготеют к конкретным каркасным структурам. Так, руко-
творные ландшафты занимают узловые местоположения на центральной
гидроморфной структуре — там, где энергетика геосистемы обладает чертами
исключительности. Эволюционировавшие ландшафты тяготеют к рукотвор-
ным и формируются вдоль гидроморфных осевых структур различного ранга.
Элементарные ассоциативные ландшафты «избирают» преимущественно мар-
гинальную каркасную структуру, но иногда сопряжены с планировочными и
гидроморфными осями и узловыми зонами. Выявление природно-культурного
каркаса о. Анзер позволило определить местоположение одного из перспектив-
ных культурно-хозяйственных центров, который так и не был создан, но оста-
лись следы подготовительных работ по его освоению. Основываясь на законо-
мерностях строения природного каркаса, была уточнена конфигурация остров-
ных водно-канальных систем. Исходя из изложенной концепции, вполне
логичным представляется природно-культурный генезис основной гидроморф-
ной оси каркаса, которая «достроена», доделана с помощью каналов, а её транс-
портирующая функция усилена в результате усиления поверхностного стока.
Знание закономерностей развития культурного ландшафта позволяет
обоснованно подходить к проблеме его сохранения как объекта наследия. Эта
проблема не исчерпывается консервацией и реставрацией отдельных памятни-
ков, несмотря на всю важность таких мероприятий. Реставрация отдельных па-
мятников культуры не даёт желаемого эффекта, если проводится вне контекста
культурного ландшафта, вмещающего эти памятники. В этом смысле ланд-
шафт аналогичен живому организму, для излечения которого необходимо зна-
ние основных причинно-следственных связей, без чего работы с памятниками
подобны нескончаемым инъекциям, поддерживающим функции отдельных
органов на фоне общей его деградации. Зарастают дороги и каналы, заболачи-
ваются и зарастают некогда обширные луга, утрачивается образное восприятие
ключевых исторических пейзажей. Направленно измененные территориаль-
ные комплексы Соловецких островов вынуждены приводить свои структуры в
квазиприродное состояние, что сопровождается увеличением энтропии. Дейст-
вия, предпринимаемые в отношении памятников, инженерных сетей и угодий,
свидетельствуют об отсутствии целостного восприятия историко-культурной
среды, восприятия всего территориального комплекса в качестве объекта
управления, регулирования, охраны и использования.
Сохранение всего историко-культурного комплекса Соловков будет эф-
фективным только тогда, когда понимание объекта охраны (памятника) будет
расширено до границ культурного ландшафта, включая все его ценности (как
артефакты культуры, так и феномены природы) и всю систему регулирующих
развитие ландшафта процессов. Возможно, возвращение монастыря на острова
будет способствовать восстановлению наиболее значимых культурно-ланд-
шафтных комплексов, но это совершенно не означает повторения бывшего об-
лика ландшафта — здесь можно ожидать развития его исторической модели,
возможны инновации, если цель — восстановление образа жизни, а не только
консервация унаследованных от прошлого памятных черт. С другой стороны,
Культурный ландшафт как объект наследия
зафиксированный в культурном ландшафте опыт поколений можно рассмат-
ривать как исключительной ценности информационный потенциал, как фено-
мен наследия, требующий восстановления и сохранения. Исторические функ-
ции ландшафта — духовные, сакральные, информационные, мемориальные,
хозяйственные, эстетические, дидактические — должны быть задействованы,
тогда ландшафт будет жизнеспособным. Его будущее развитие, несомненно,
будет связано и с такими сферами деятельности, как наука, образование и про-
свещение, которые будут «осваивать» его богатое информационное поле.
Литература
Веденин Ю. А., Кулешова М. Е. Культурный ландшафт как объект культурного и природного на-
следия // Известия АН. Серия географическая, 2001, № 1. С. 7–14.
Гаукстад Эвен, Кулешова Марина, Моен Эли, Столяров Вячеслав. Сравнительный анализ практики
управления культурными ландшафтами. М.: Институт Наследия, 1999. 96 с.
Гемп К. П. Сказ о Беломорье. Архангельск, 1983.
Колосова Г. Н. Состояние памятников истории и культуры на острове Анзер (Соловецкий архипе-
лаг). Карта экологического риска // Инженерно-географические проблемы современности.
СПб., 1995.
Колосова Г. Н. Природно-географический анализ исторических территорий: Соловецкий архипе-
лаг. М.: Институт Наследия, 1999. 111 с.
Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехниче-
ского строительства XVII–XIX веков — озёрно-канальной гидротехнической системы Боль-
шого Соловецкого острова Архангельской области. Ленгипроводхоз, 1992.
Кронштадтский Иоанн. Христианская философия. СПб., 1992.
Кулешова М. Е. Монастырский культурный ландшафт: закономерности формирования (на при-
мере о. Анзер Соловецкого архипелага) // Материальная база сферы культуры. Информ-
культура. Вып. 2. М., 1997. С. 20–30.
Кулешова М. Е. Культурный ландшафт как феномен наследия и объект управления (опыт России
и Норвегии) // Материалы ICOMOS. Информкультура. Вып. 2, 1998. С. 14–32.
Кулешова М. Е. Место Соловецкого архипелага во Всемирном наследии // Живописная Россия,
2000, № 4. С. 16–19.
Лебедев Лев. Энергетическая проблема с православной точки зрения // Православие и экология.
М.,1997.
Лопатин Д. В. Картографирование энергии рельефа и инженерная оценка несущих свойств по-
верхности по стереопарам космических изображений Приморского края // Инженерно-гео-
графические проблемы современности. СПб., 1995.
Морозов С. (составитель) Тогда на Анзерском острове. Материалы по истории Соловецкого от-
шельничества. М.: Товарищество Северного Мореходства, 2000. 165 с.
Натытник А. Каналы на острове Анзер // Мелиоратор. М., 1990, № 3.
Никишин Н. А. Анализ развития природы Соловецких островов / Дис. на соиск. уч. степ. канд.
геог. наук. М., 1986.
Отчет о проведении мониторинга объекта Всемирного наследия «Соловецкий историко-культур-
ный комплекс» // Информационный бюллетень «Экология культуры», № 4 (17). Архан-
гельск. 2000, С. 27–79.
Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992.
Рывкин В. Р. Исторические ландшафты Валаама и проблема их сохранения // Проблемы исследо-
вания, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петроза-
водск, 1989. С. 94–110.
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
Скопин В. В. Соловки. История, архитектура, природа. М.: «Искусство» — «Терра», 1994. 371 с.
Скопин В. В. На Соловецких островах. М.: «Искусство», 1991. 200 с.
Соловецкие острова: духовное и культурное наследие. Карта для паломников и туристов. М.: Ин-
ститут Наследия, 2001.
Столяров В. П. Образы Святой Земли на Соловецких островах // Светоч, 2002. № 3.
Столяров В. П. Духовно-символическое пространство сакральных комплексов России как объект
национального наследия (на примере Соловецкого архипелага) // Ставрографический
сборник. Книга первая. М.: Изд-во Моск. Патриархии, Изд-во «Древлехранилище», 2001.
С. 113–129.
Столяров В. П. (составитель). Анзер и его святыни. Спасо-Преображенский Соловецкий ставро-
пигиальный мужской монастырь, 2001. 143 с.
Столяров В. П. Становление архетипа православного монастыря. Проблемы использования мо-
настырских комплексов и трансляции наследия // Материальная база сферы культуры. РГБ.
Информкультура. Вып. 1, 1997.
Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое простран-
ство северно-русской культуры). Архангельск: Поморский педуниверситет, 1993. 223 с.
Черенкова Н. Н. Независимые слагаемые или сумма? // Охрана дикой природы, 1999. № 3 (14).
С. 7–10.
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO. 1972.
Kouleshova M. The Solovetsky Archipelago: Evaluation and Prospects // World Heritage Review, № 12,
1999.
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO, WHC —
99/2, 1999 (February). 38 p.
2.4 Ландшафт полей сражений:
генезис, структура, развитие
А. В. Горбунов
| П |
оля сражений являются объектами культурного насле-
дия, для которых характерны сложность состава и раз-
нообразие находящихся на их территории памятников. Количество полей сра-
жений, местонахождение которых достоверно известно и ландшафт которых
хотя бы частично сохранился в неизменном виде, исчисляется сотнями. Древ-
нейшее из таких полей сражений — долина Мегидо в Палестине. Расположен-
ная на древней дороге Виа Марис (Морской путь) равнина у одноимённого го-
рода на протяжении трёх с половиной тысяч лет, начиная с библейских врёмен,
была местом десятков сражений. Из более чем ста мест сражений наполеонов-
ских войн 47 полей в разной степени сохранили исторический ландшафт, отме-
чены памятными знаками, музейными экспозициямии, по мнению профессора
Дижонского университета (Франция) А. Пижара, высказанному им на научной
конференции «Наполеоновский период: старые территории, новые пути изуче-
ния, новые опыты» в Пултуске (Польша) в 2001 г., достойны быть объектами
международного туризма.
Между тем, мнения участников одиннадцати научных конференций на те-
му «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы» —
представителей мемориалов на полях сражений Беларуси, Болгарии, Германии,
Испании, Канады, США, Украины, Чехии, а также материалы двух международ-
ных конгрессов сотрудников музеев на полях сражений позволяют сделать вы-
вод о том, что поля сражения в настоящее время относятся к наиболее уязви-
мым объектам культурного наследия. Для европейских стран главная проблема
состоит в том, чтобы, по образному выражению Х. М. Герреро (2003), «уберечь
поля сражений от челюстей строительных машин». Поля сражений ФРГ в виде
засеянных техническими культурами агромассивов, в окружении ветровых
электростанций и мачт сотовой связи теряют свою культурную, просветитель-
скую, эстетическую и рекреационную привлекательность. В России не менее ак-
туальной в последние десять лет стала проблема зарастания и запустения от-
крытых пространств на полях сражений из-за резкого сокращения объёмов
сельскохозяйственной деятельности.
Главная причина этих негативных процессов состоит, на наш взгляд,
в недооценке как национальными и местными властями, так и обществом в це-
лом большого культурного потенциала и многообразия ценностей, которыми
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
обладают поля сражений как объекты наследия. Государственные органы, как
правило, обращают внимание лишь на монументы, используя их для офици-
альных политических мероприятий. В туристических целях на полях сражений
используются лишь отдельные объекты показа, в первую очередь, опять же,—
монументы и мемориальные объекты.
Концепция культурного ландшафта предлагает принципиально иной под-
ход к характеристике полей сражений как объектов наследия, позволяющий наи-
более адекватно отразить закономерности и оценить перспективы их развития.
Каждое поле сражения является уникальным как в историческом, так и в
природно-географическом отношении. Тем не менее, с точки зрения концеп-
ции культурного ландшафта, в формировании и древних, и современных по-
лей сражений как объектов наследия можно выделить ряд общих характери-
стик и этапов.
Во все времена поля сражений не создавались, а выбирались. Для участия в
битвах десятков и сотен тысяч человек, кавалерии, а позднее — военной техни-
ки, требовалась территория в десятки квадратных километров с особым соотно-
шением открытых и закрытых пространств, высот и впадин. Все поля сражений
располагались у дорог или рек, нередко в местах их пересечений. В древности и
средневековье сражения зачастую происходили на незаселённых территориях в
природном ландшафте; начиная с XVII в. сражения происходили чаще всего в
сельской местности.
Природный или сельский культурный ландшафт, избранный для сражения,
рассматривается нами как исходный, или первичный, ландшафт поля сражения.
Первичный ландшафт — это пространственно-территориальный каркас
поля сражения, его морфологическая основа. Степень сохранности первично-
го ландшафта определяет узнаваемость местности как поля сражения. Основ-
ными параметрами первичного ландшафта поля сражения, важными для ха-
рактеристики культурного ландшафта, впоследствии формируемого на его
месте, являются:
¨ географическое положение местности;
¨ степень и характер её использования;
¨ объёмно-пространственные характеристики основных элементов природного (поля, леса, реки, овраги, возвышенности) и искусственного (дороги, населённые пункты, отдельные здания и сооружения) происхождения;
¨ функциональные взаимосвязи и пространственное сочетание элементов ландшафта.
Совокупность этих характеристик отражает военно-оборонительный по-
тенциал данной местности, делает возможным её использование не только в хо-
зяйственных, но и в военных целях. Наиболее очевидно этот потенциал первич-
ного ландшафта выражен в тех случаях, когда местность становится полем сра-
жения неоднократно, как это было на Бородинском поле в 1812 и в 1941 гг.
Та или иная территория становилась полем сражения в результате совпаде-
ния во времени и пространстве множества объективных и субъективных факто-
ров. Представление об этом можно получить на примере донесения М. И. Куту-
зова Александру I, отправленного накануне Бородинского сражения: «Прибыв к
| Культурный ландшафт как объект наследия |
| Бородинское поле накануне сражения. Литография 1830-х гг. по рисунку с натуры А. Адама |

армии, нашёл я оную в полном отступлении, и после кровопролитных дел, в
Смоленске бывших, полки весьма некомплектными. Дабы приближиться к посо-
биям, принужден я был отступать далее, дабы встречающими меня войсками, ко-
торым я дал предварительно направление к Можайску, усилиться… Позиция, в
которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти верстах вперёд Можайска,
одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое ме-
сто сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить ис-
кусством. Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею
большую надежду к победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, манев-
рировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что
может быть должен итти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся, и
как бы то ни было, Москву защищать должно» (Бородино. Документы…, 1962).
Этот отрывок говорит о многом. Целью предстоящего сражения была не-
обходимость преградить путь продвижения противника к стратегическому
пункту — Москве. Выбор места зависел как от соответствия ландшафта задачам
оборонительного сражения (позиция у с. Царево-Займище, куда прибыл Куту-
зов, была подходящей), так и от места максимально возможной концентрации
своих войск (у Можайска). Упоминание о «плоских местах» свидетельствует о
желании и трудности найти здесь достаточно обширную открытую местность с
естественными препятствиями (реки, овраги) и высотами для создания оборо-
нительных пунктов. Избранная позиция была, как обычно, не идеальной, а «од-
ной из наилучших» — «исправить искусством» предстояло только один фланг.
Ключевыми элементами позиции являлись дороги. Наконец, сражение на этом
месте могло не состояться, если бы противник — Наполеон — счёл её слишком
выгодной для обороняющихся.
При подготовке к сражению объектом деятельности обеих армий стано-
вился участок первичного ландшафта, соразмерный их численности и соответ-
ствующий поставленным полководцами задачам. Превращаясь в позицию для
расположения войск, основные элементы первичного ландшафта не столько
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
изменялись материально, сколько получали временно новое функциональное
назначение. Отрицательные формы рельефа — овраги, долины рек, лощины —
становились естественными препятствиями или укрытиями, высоты — опор-
ными пунктами или артиллерийскими позициями, поля — пространством для
размещения войск и маневра, леса — преградами и прикрытиями резервов. На-
селённые пункты и каменные строения использовались как центры оборони-
тельной позиции. Они же были главными целями атакующих действий насту-
пающей стороны.
Иногда на позиции, выбранной для сражения, до его начала ни одна из сто-
рон не ставила своей целью или не успевала соорудить какие-либо оборонитель-
ные укрепления. Так, в частности, было на Куликовом поле (1380 г.), в сражениях
под Йеной и Ауэрштадтом (1806 г.). В более типичных ситуациях обороняющая-
ся сторона создавала укреплённый лагерь, строила земляные укрепления для ар-
тиллерии и пехоты, оборудовала пути для передвижения своих войск (мосты,
просеки), разбирала или сжигала деревянные постройки в предполагаемой зоне
боевых действий. Инженерную подготовку местности проводила и наступаю-
щая сторона. Вплоть до начала XX в. количество целенаправленно созданных в
ходе подготовки к сражению искусственных объектов было невелико и занимало
весьма незначительную часть общей площади поля битвы.

|
| Центральная часть Бородинского поля (батарея Раевского) после сражения. Литография 1830-х гг. по рисунку с натуры А. Адама |
Образное представление о подготовке позиции на Бородинском поле мож-
но получить из воспоминаний участника сражения Ф. Н. Глинки: «В середине
нашей боевой линии заметны и важны два пункта: Горки и деревня Семёнов-
ская. Между ними тянется отлогая высота с лёгким скатом к речке Колоче. Ви-
дите ли, как начинаются рисоваться бастионы на гребне этой высоты? Это боль-
шой люнет (батарея Раевского), оспариваемый с такою славою. Вот и ещё око-
пы! Заручьём, перед деревней Семёновскою, уже выросли из земли укрепления,
наскоро сработанные: это три реданта (или флеши)… Следуя глазами за протя-
жением главной линии к левой стороне, вы упираетесь на левом фланге в боло-
то, покрытое частым лесом. Тут расположена деревня Утица. Через неё от села
Культурный ландшафт как объект наследия
Ельни идет на Можайск старая Смоленская дорога, уже давно оставленная».
Обычный сельский пейзаж превратился в «город, мгновенно возникший на
месте жатв и селений: его домы-шалаши из ветвей и соломы; его длинные ули-
цы протянуты между длинными стальными заборами из ружей и штыков; его
площади уставлены молчаливо — грозною артиллериею» (Глинка, 1985).
В этом состоянии поле сражения находилось очень недолго. Событие, ко-
торое происходило на этом месте — столкновение многих тысяч людей, стре-
мящихся уничтожить друг друга с использованием всего имеющегося у них
оружия, разрушить всё, что могло защитить противника.
В результате интенсивного, но кратковременного разрушительного воз-
действия на оборудованный для ведения боевых действий ландшафт возникает
новый тип культурного ландшафта. Материальные следы сражения состоят из
разрушенных укреплений, преобразованных элементов первичного ландшаф-
та, использованных боеприпасов, обломков оружия, захоронений. Всё это явля-
ется материальным свидетельством битвы. Информация о сражении первона-
чально состоит из немногочисленных документов и гораздо большего объёма
сведенийиэмоциональных впечатлений, зафиксированных в памяти его участ-
ников и очевидцев.
Важно подчеркнуть, что если материальные свидетельства боевых дейст-
вий имеют тенденцию к исчезновению, то новое информационное содержание
ландшафта поля битвы неуничтожимо, как и сам факт исторического события,
то есть сражения.
Таким образом, на месте первичного (природного или сельского) ландшафта,
изменённого в результате боевых действий, начинает формироваться военно-
исторический культурный ландшафт поля сражения.
Он является военным по своему происхождению и временному функцио-
нальному назначению, историческим — по информационному содержанию и
значению события, культурным как особый вариант взаимодействия человека
и природы, целенаправленно созданный в результате подготовки к сражению и
самого сражения.
В отличие от первичного военно-исторический ландшафт поля сражения
следует считать целостной ландшафтной единицей, основанием для выделения
которой является её особое функциональное назначение при подготовке к сра-
жению и в ходе него. Его границы определяются протяжённостью по фронту
оборонительной позиции и глубиной расположения войск обеих сторон, вклю-
чая резервы и центры управления армиями.
Степень разрушения элементов первичного ландшафта зависит от числен-
ности войск, используемых видов оружия, интенсивности боевых действий.
Однако при этом бoльшая часть из этих элементов сохраняется. Исключение
составляют лишь некоторые населённые пункты и отдельные сооружения. Все
сохранившиеся элементы ландшафта приобретают новую культурную цен-
ность, становясь памятными местами и памятными объектами как свидетели
сражения. Это зависит не только от наличия в них материальных остатков сра-
жения; их связь с боевыми действиями может быть зафиксирована и в инфор-
мационном слое ландшафта — исторических источниках (картах, диспозици-
ях, рапортах, воспоминаниях) и материалах исследований.
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
Специфические элементы военно-исторического ландшафта поля сраже-
ния, представленные как целенаправленно созданными, так и разрушенными
объектами, сравнительно немногочисленны. Их особое функциональное назна-
чение — военное — кратковременно и неповторимо. Их сохранение не может
быть обеспечено продолжением той деятельности, в результате которой они по-
явились, тоестьвоенных действий. Болеетого, полностью сохранить целостность
и аутентичность военно-исторического ландшафта невозможно в принципе.
Подтверждением этого может служить описание первоначального состоя-
ния военно-исторического ландшафта Бородинского поля: «Остовы лошадей с
обнажёнными ребрами, искрошенное оружие, разбитые барабаны, каски, сумы,
опрокинутые фуры без колёс, колёса без осей, оледенелые пятна крови и
примёрзлые к земле разноцветные лохмотья мундиров разных войск, разных
народов: вотубранство поля Бородинского! Горецкие и Шевардинские курганы
и большой центральный люнет стояли, как запустелые башни, ужасными сви-
детельствами ужасного разрушения. Окрестные деревни сожжены; леса, об-
нажённые осенью и постоями войск, изредели… И в эт ом могильном запусте-
нии лежали трупы, валялись трупы, страшными холмами громоздились тру-
пы!» (Глинка, 1985).
Зафиксированное пером очевидца состояние не может быть сохранено или
восстановлено полностью и не может служить эталоном при определении сте-
пени сохранности поля сражения как объекта наследия. В этом его существен-
ное отличие от других типов культурного ландшафта — дворцово-паркового,
усадебного, монастырского, городского, заводского и т. п.
Военно-исторический ландшафт поля сражения — это развивающаяся ди-
намичная территориально-пространственная система. В контексте данной кни-
ги существенно важным является процесс его превращения в объект наследия.
При этом следует отметить три важнейших фактора.
Первый из них — природные процессы, объективно ведущие к изменению
и уничтожению материальных свидетельств сражения.
В первую очередь исчезаютследы разрушений в природных элементах
ландшафта — «раны войны». Разрушенные земляные укрепления оплывают и
превращаются взарастающие руины. Дольше всего материальные следы сраже-
ния сохраняет сама земля. Почва, насыщенная смертоносным металлом и про-
питанная кровью, даже при условии регулярной распашки может сохранять
свидетельства битвы на протяжении многих столетий. На отдельных участках
может образоваться археологический культурный слой поля сражения.
Военно-исторический ландшафт поля сражения может полностью утра-
тить все материальные свидетельства события, сохранив в своём информаци-
онном слое лишь название и (или) дату битвы, которые не позволяют опреде-
лить с достаточной точностью даже её место. Это происходит в том случае, если
жизнь на поле сражения не возобновлялась в течение многих столетий или оно
стало местом расселения нового этноса (битва на р. Калке, 1223 г.). Во всех дру-
гих случаях сохраняется возможность установления места битвы и развития его
ландшафтного комплекса в виде ассоциативного культурного ландшафта.
Второй фактор — возобновление на поле сражения мирной жизни, его ис-
пользование по первоначальному назначению.
Культурный ландшафт как объект наследия
Начало этого процесса — сбор трофеев и захоронение человеческих и кон-
ских трупов. Захоронение или сожжение останков павших воинов сопровожда-
ется появлением на поле сражения десятков или сотен братских могил и (далеко
не всегда) первых памятных знаков на них — земляных курганов, каменных
пирамид, деревянных крестов, сделанных из подручных материалов обелисков
с надписями. Восстановление населённых пунктов и традиционных форм при-
родопользования является необходимым и наиболее эффективным средством
сохранения памятных мест и объектов — полей, лесов, оврагов, дорог, зданий и
сооружений. В течение одного-двух десятилетий военно-исторический ланд-
шафт, изменяясь, приобретает облик, близкий к тому, который был до сраже-
ния. Это не означает полного восстановления первичного ландшафта, посколь-
ку границы угодий и населённых пунктов, соотношение открытых и закрытых
пространств, породный состав лесов, характер застройки и т. д. не воссоздаются,
а воспроизводятся постольку, поскольку используются традиционные техноло-
гии хозяйственной деятельности и традиционные образцы застройки. До конца
XIX в. такое природопользование, несмотря на накопление изменений, обеспе-
чивало, как правило, сохранение военно-исторических ландшафтов полей сра-
жений на уровне их узнаваемости.
Третий фактор развития военно-исторических ландшафтов полей сраже-
ний — их мемориализация.
Мемориализация культурного ландшафта поля сражения — это не только
установка на нём разнообразных памятных знаков, но и закрепление в народ-
ной памяти прямой ассоциативной связи между историческим событием и
местностью, на которой оно произошло.
Интегральным выражением особой ценности поля сражения является пре-
вращение названия местности в символическое понятие международного или
национального масштаба: Марафон, Канны, Ватерлоо, Верден, Сталинград.
Символическую и легендарную ценность места сражения выражает топоним
Куликово поле. Стихотворение «Надпись на поле Бородинском» (Н. Д. Иван-
чин-Писарев, 1813 г.), в котором село Бородино названо российским Марафо-
ном, можно считать началом признания особой ценности Бородинского поля.
Более совершенное поэтическое выражение этоговлермонтовском «Бородино»
привело к тому, что слова «и вот нашли большое поле» и «недаром помнит вся
Россия» ассоциируются с Бородинским полем даже без его названия. Аналогич-
ным образом в Германии название «Битва народов» ассоциируется с полем сра-
жения под Лейпцигом.
Мемориальная ценность поля битвы в первую очередь осознаётся родст-
венниками погибших. Как правило, именно они устанавливают на поле сраже-
ния первые памятные знаки — надгробия. Поскольку зафиксировать после сра-
жения местa захоронения отдельных воинов и даже генералов удаётся далеко не
всегда, количество индивидуальных надгробных памятников на поле сражения
исчисляется единицами. Количество надгробий на братских могилах также не-
сопоставимо меньше количества захоронений.
Символические памятники государственного значения устанавливаются
на полях сражений через несколько десятилетий, ещё при жизни ветеранов бит-
вы или к юбилейным датам. В зависимости от национальных традиций это
Типологическое разнообразие культурных ландшафтов
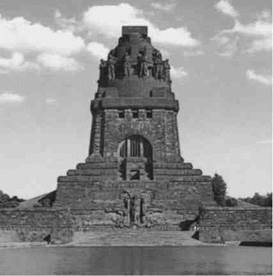
|
| Памятник «Битве народов» в г. Лейпциге. Архитектор К. Тимэ, 1913 г. |
может быть монумент, часовня, храм.
В России традиция строительства
храмов на полях сражений насчи-
тывает много веков. Свидетельст-
во этому — храм Михаила Архан-
гела, построенный в XV в. у места
Ледового побоища. Иногда памят-
ники символического значения по-
являются лишь к столетию битвы
(Лейпциг) или даже через несколь-
ко веков (Куликово поле). Все они
выражаютособую историческую
ценность места сражения, патрио-
тизм, предостережение возможно-
му противнику. Примером этого
является Бородинский монумент
1839 г., о котором участник сраже-
ния Н. Любенков писал: «Пусть
драгоценный этот памятник ожи-
витвоспоминания, пусть воины
наши, узрев его, возбудятся ещё большею ревностию и соделаются достойными
на великие жертвы, пусть примирённые враги с тайным ропотом отойдут
прочь. Завидя обелиск гигантам Европы, у них затмится мысль нового вторже-
ния в Россию, где громовые кары их настигли» (Любенков, 1837).
Признание военно-исторической ценности поля сражения выражается в
установке памятных знаков на командных пунктах полководцев, местах распо-
ложения воинских частей, памятных местах, связанных с эпизодами битвы.
С этой целью под Лейпцигом в 1861–1864 гг. было установлено 44 памятных
камня на личные средства Т. Апеля, который выразил желание, «чтобы наши
внуки тоже любили посещать эти памятные места на знаменитых полях Лейп-
цига, узнавали бы правду о войне и боях, об ужасном несчастье, которое было
совершено силами, данными людям Богом» (Шмидт, 2002). На поле сражения
под Йеной (1806 г.) установлено 17 памятных знаков такого типа.
Признание военно-исторической ценности поля сражения иногда сопрово-
ждается восстановлением укреплений.
Культурно-историческая ценность полей сражений выражается превраще-
нием их территорий в достопримечательные места, предназначенные для ос-
мотра посетителями. Одновременно на некоторых из них создаются музеи с
экспозициями. Старейшимвмиреизмузеев, существующих в настоящее время
на полях сражений, является Бородинский музей-заповедник (1839 г.), первым
экспонатом которого стал план Бородинского сражения из Военно-топографи-
ческого департамента.
Разнообразие архитектурно-художественных форм, информационного со-
держания и количества памятных знаков отражает многогранность истори-
ко-культурного потенциала полей сражений, а также многообразие возможно-
стей их ассоциативного восприятия.
Культурный ландшафт как объект наследия

|
Военно-исторический ландшафт
поля сражения постепенно превраща-
ется в музейно-мемориальный ланд-
шафт, соответствующий ассоциатив-
ному типу культурного ландшафта.
Музейно-мемориальный ланд-
шафт поля сражения — это результат
совокупного воздействия указанных
выше факторов на военно-историче-
ский ландшафт, сложного переплете-
ния частных, общественных и государ-
ственных инициатив, это поле сраже-
ния как объектнаследия в современном
состоянии — с утратами и дополне-
ниями.
| Поле сражения под Йеной, памятный знак «Прусская кавалерия». 1990-е гг. (фото Р. Хайне) |
Композиционные элементы му-
зейно-мемориальноголандшафтаполя
сражения образуютсложную систему
смысловых и визуально-пространст-
венных взаимосвязей. Это не исключа-
ет возможности их типологизации, не-
обходимой для более полного выявле-
ния историко-культурного потенциала поля сражения, описания характеристик,
важных не только для сохранения этих элементов, но и для развития всего ланд-
шафта или ландшафтного комплекса. Предлагаемая нами систематизация ланд-
шафтных элементов обусловлена генезисом культурного ландшафта полей сра-
жения,происхождениемотдельныхобъектов,ихфункциональнымназначением
и особенностями содержащейся в них информации.
Композиционная структура музейно-мемориального ландшафта поля сра-
жения включаетв себя историко-культурные элементы (объекты наследия) и со-
временные объекты недвижимости.
Рассмотрим историко-культурные элементы, или объекты наследия.
 2015-05-05
2015-05-05 712
712








