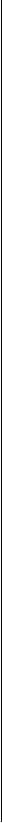 рабочего в качестве производит, силы. Производств,
рабочего в качестве производит, силы. Производств,
отношения — это не внешняя по отношению к произ-ву
форма; это — содержат, форма, придающая произ
водит, силам нсторически-определ. характер, подчи
няющая их своеобразным законам функционирования.
Лит.: Маркс К., Наемный труд и капитал, М а р к с К.
иЭ нгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 6; е г о ж е, Введение (Из
экономич. рукописей 1857—1858 годов), там же, т. 12; его же,
К критике политич. экономии, там же, т. 13, предисловие;
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20, отд. 2, гл. 1;
отд. 3; Ленин В. И., Что такое «друзья парода» и как они
воюют против социал-демократов?, Соч., 4 изд., т. 1, вып. 1;
его же, Экономич. содержание народничества и критика
его в кн. г. Струве, там же; его же, Развитие капитализма
в России, там же, т. 3, гл. 1; Г а з е н к о В. И., Лекции
по историч. материализму, вып. 1, М., 1956; II а н ю ш ев И. М.,
К вопросу о марксистском понимании способа производства,
«ФН» (НДВШ), 1965, № 4; К е л л е В. Ж., О понятии спо-
ссОа производства, там же. М. Ковалъаоп. Москва.
СПОСОБНОСТИ — характеристики личности, выражающие меру освоения некоторой совокупности дея-тельностей. При этом под мерой освоения понимают быстроту и легкость реализации определ. рода деятельности, глубину и прочность усвоения ее способов и т. д. В иерархически представленной структуре личности С. занимают место над навыками и умениями, выступая в качестве средств их регулирования и развития.
Сущность понятия «С.» обычно связывается с категориями возможности и свойства (качества). Начало этой традиции положил еще Аристотель, говоривший (в трактате «О душе») о С. как о потенциальных воз-моя-;ностях приобретения общих принципов знания. С тех пор самые различные филос. направления определяют С. как потенциальные свойства (качества) личности, к-рые актуализируются при определ. обстоятельствах.
До выделения психологии в самостоят, науку С. трактовали как свойства души, как особые силы, обеспечивающие возможность познания и переживаний, причем от Платона через христианство шла линия понимания С. как врожденных, изначально присущих индивиду. Сообразно этому строились различные классификации С, из к-рых наиболее известна классификация X. Вольфа, основателя т. н. «психологии С.»; главными в его системе были С. познания и С. желания, понимавшиеся как субстанциональные силы, к-рые определяют деятельность души. Первым отошел от субстанциональной трактовки С. Декарт, сделавший шаг к анализу механизмов интеллектуальной деятельности. Эта линия была продолжена Лок-ком и франц. материалистами, причем последние поставили проблему зависимости формирования С. от обучения и от социальных условий в целом. Кант создал предпосылки для различения социально-логического и индивидуально-психологпч. аспектов С, подвергнув анализу познават. С. как общеродовые свойства человека. В философии марксизма решение проблемы С. было определено пониманием человека как совокупности обществ, отношений; отсюда вытекала критика как исключительно «природного», «естественного» истолкования С, так и трактовки их как всецело зависимых от внешних условий жизни личности.
Предметом спец. психологич. изучения С. стали в 19 в., после того как работами Ф. Гальтона было положено начало исследованию дифференциальных различий людей. Общая природа С. до наст, времени остается предметом дискуссий, хотя психология накопила большой материал по исследованию отд. видов С. и путей их формирования.
В структуре личности С. тесно связаны с такими качествами, как особенности памяти, эмоц. свойства, черты характера, качества интеллекта. Хотя в целом С. не могут быть отождествлены с этими качествами, однако эти последние можно рассматривать как С,
если они составляют условия тех или иных конкретных видов деятельности и формируются под влиянием соответствующей деятельности. В отношении к знаниям, умениям и навыкам С. выступают как условие, обеспечивающее их приобретение.
В психологии С. изучаются с качественной и количеств, сторон. Качеств, анализ направлен на выявление совокупности С, необходимых для эффективного осуществления тех или иных конкретных видов деятельности; в этом смысле изучение С. выступает как необходимая составная часть психологич. изучения деятельности. С др. стороны, исследование С. выступает как составная часть психологич. исследования структуры личности. Оба эти плана смыкаются в проблеме формирования С. посредством обучения и воспитания. Особенность почти всякой более или менее сложной деятельности состоит в том, что одинаковый или сходный результат может быть получен на основе комбинирования различных С. Выявление многообразия таких комбинаций позволяет уточнить место и значение каждой из С. Наиболее важной и сложной проблемой качеств, анализа С. является проблема их выявления, обнаружения. Очевидно, что та или иная конкретная С. может быть обнаружена прежде всего в такой деятельности, к-рая неосуществима без наличия этой С. Это выдвигает задачу спец. конструирования таких деятелыюстей, к-рые позволяли бы фиксировать наличие определ. С.; в свою очередь такие деятельности могут использоваться и для формирования соответствующих С.
Проблема количеств, измерения С. была поставлена еще в конце 19 в. Именно этой цели служили тесты, предложенные первоначально в связи с задачами проф. отбора для определения уровня соответствующих С, а затем получившие широкое распространение в др. областях психологич. исследования.
Многообразие С, необходимых для осуществления того или иного конкретного вида деятельности, ставит проблему иерархии С. В общем виде принято делить С. на ведущие и вспомогательные; очевидно, что такое разделение относительно и является специфическим для каждого отд. вида деятельности.
Изучение конкретно-психологич. характеристик различных С. позволяет выделить общие (инвариантные) качества, отвечающие требованиям не одной, а мн. видов деятельности, и с и е ц. качества, отвечающие более узкому кругу требований данной деятельности. Это различение исследуется экспериментально. Напр., в США делаются попытки выявить осн. общие С, необходимые для науч.-исследовательской деятельности (К. Тейлор, В. Смит, Б. Гизелин, Р. Крач-филд и др.). Иногда при этом постулируется существование некоего общего интеллекта — неизменяемой всесторонней умств. одаренности; этот постулат подвергается критике в сов. психологич. лит-ре. По-видимому, совокупность С. у данной личности в значит, мере определяется ее развитием и типом.
Уровень и степень развития С. у личности выражают понятия таланта и гениальности. Поскольку объективные критерии для определения соответствующего уровня в наст, время не выработаны, различение талантливости и гениальности проводится не по характеристике самих С, а по характеристике продуктов деятельности. Сообразно этому талантом наз. такую совокупность С, к-рая позволяет получать продукт деятельности, отличающийся оригинальностью и новизной, высоким совершенством и обществ, значимостью; гениальность — высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в той или иной сфере творчества, «создавать эпоху». Оба эти качества С. всегда непосредственно связываются с творч. деятельностью. В психологии творчества стремятся специально вы-
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
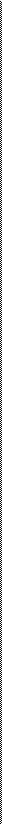 делить особый вид С.— творческие С. (подробнее об этом см. Творчество).
делить особый вид С.— творческие С. (подробнее об этом см. Творчество).
С. не даются человеку в готовом виде, как нечто врожденное, они формируются в жизни и деятельности. Считается, что формирование С. происходит на основе задатков — врожденных анатомо-фи-зиологич. особенностей деловека, прежде всего — центр, нервной системы. При этом различают врожденные (прирожденные) и наследств, задатки. Первые могут быть обусловлены как наследственностью, так и условиями эмбрионального развития; вторые включают в себя то, что передается индивиду от его предков {см. С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, 1946, с. 641).
В США и нек-рых др. странах врожденные компоненты С. изучаются на детях раннего возраста, к-рые, как предполагается, еще не подверглись воздействию воспитания (Л. Термен, Е. Кокс и др.). Однако к наст, времени взаимосвязь врожденных и приобретаемых компонентов С. исследована недостаточно (значит, материал собран лишь относительно дефектов задатков), поэтому по поводу природы этой взаимосвязи до сих пор конкурируют две т. зр. Согласно одной из них, гл. роль играет биологич. предопределение С, согласно второй — обучение и воспитание. Фактически все существующие концепции С. представляют собой различные модификации этих т. зр.
Долгое время предполагалось, что существует корреляция между анатомическими (макроскопическими) особенностями мозга и определ. С, однако это положение не подтвердилось. В совр. лит-ре выдвигается несколько иной взгляд — о связи задатков с функ-цион. особенностями нервной системы и характеристиками типов высшей нервной деятельности (Б. М. Теп-лов), с микроструктурой мозга и органов чувств. Другая т. зр., признавая наличие природных С, задатками к-рых служат свойства высшей нервной деятельности, главными считает специфически человеческие С.— «способности второго рода», к-рые также имеют основу в мозговых механизмах в виде прижизненно формирующихся «функцион. органов», но прежде всего выступают как результат присвоения обществ.-историч. опыта (А. Н. Леонтьев).
Лит.: Теп лов Б. М., Психология музыкальных С, М.—Л., 1947; Ковалев А. Г. иМясищев В. Н., Психология, особенности человека, т. 2, Л., 1960; Лей-тес Н. С, Об умств. одаренности, М., 1960; Леонтьев А. Н., О формировании С, «Вопр. психологии», 1960, №1", Петровский А. В., С. и труд, М., 1966; К р у-тецкий В. А., Психология математич. С, М., 1967; Terman L. [а.о.], Genetic studies of genius, v. 1—4, Stanford, 1926—48; Cattel R., Personality: a systematic theoretical and factual study, N.Y., 1950; R ё v ё sz G., Talent und Genie, Amst., 1952; Vernon P. E., The measurement of abilities, 2 ed., L., 1956; Baumgarten F., Die Bega-bung und ihre Probleme, W., 1963; G i n z b e r g E., H e r-ma J. L., Talent and performance, N.Y.—L., 1964.
В. Москаленко. Одесса.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ — понятие о должном, соответствующее определ. пониманию сущности человека и его неотъемлемых прав. С.— категория морально-правового, а также социально-политич. сознания, поскольку оно оценивает обществ, действительность, подлежащую сохранению или изменению, с т. зр. долженствования. В отличие от понятий блага и добра, с помощью к-рых оцениваются отд. явления, взятые сами по себе, С. характеризует соотношение неск. явлений с т. зр. распределения уже существующих блага и зла между людьми. В частности, понятие С. требует соответствия между практич. ролью различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их обществ, признанием, а также эквивалентности взаимного обмена
деятельностью и ее продуктами. Несоответствие в этих соотношениях оценивается как несправедливость.
Первое в истории обществ, сознания понимание С. было связано с признанием непререкаемости норм первобытного строя: С.— это простое следование общепринятому порядку (напр., др.-греч. 8ixn — С. первоначально означало лишь «обычай», «уклад жизни»). В социальной практике такое понимание С. имело негативный смысл — требование наказания за нарушение общей нормы (ретрибутивная, воздающая С); одним из его практич. выражений был институт родовой мести. Более сложное, позитивное понимание С., включающее наделение людей благами, возникает в период выделения отд. индивидов из рода. Первоначально оно означает гл. обр. равенство всех людей в пользовании средствами жизни и правами. С возникновением частной собственности и обществ, неравенства С. начинают отличать от равенства, включая в нее и различие в положении людей сообразно их достоинствам. Напр., у Демокрита: «Наиболее содействует делу справедливости и добродетели тот, кто отдает наибольшие почести самым достойным» («Материалисты Др. Греции», М., 1955, с. 159). В социальной утопии Платона понятие С. характеризует такое устройство общества, когда каждое из трех сословий добросовестно исполняет свои обязанности и не вмешивается в дела других: «...производить свое и не хвататься за многое есть именно справедливость» (Соч., т. 3, СПБ. 1863, с. 225). Аристотель считает, что С. может означать и равенство для равных, и неравенство для неравных; он впервые разделяет С. на уравнительную и распределительную: «Что касается специальной справедливости..., то один вид ее проявляется в распределении почестей, или денег, или вообще всего того, что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе (здесь может быть равное или неравное наделение одного перед другим). Другой вид ее проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена» («Этика Аристотеля», СПБ, 1908, с. 86—87). Особым видом С. Аристотель считает случай воздаяния, к-рое должно исходить из принципа пропорциональности: «...Общество держится тем, что каждому воздается пропорционально его деятельности» (там же, с. 91). В дальнейшем это разграничение С. равенства и пропорциональности (по достоинствам) сохраняется во всей истории классового общества. Равенство как основа С. признается весьма ограниченно. Христ. мораль допускала лишь религ. равенство людей в смысле их общего происхождения от бога и «братства во Христе». В бурж. понимании С. уже предполагается известное реальное равенство прав (политич., юри-дич. равенство перед законом, экономич. «равенство возможностей» и эквивалентность обмена товарами и услугами), к-рое на практике оказывается в значит, мере формальным. Основу пропорциональной С. феод, мораль видит в достоинствах, связанных со степенью «благородства» происхождения, а бурж. мораль — в способности и усердии, проявленных данным человеком или его предками и воплощенных в накопленном богатстве. Наряду с понятием С, отразившим в себе и оправдывающим структуру существующих классовых отношений, в нар. сознании всегда развивались идеи С, выражающие протест против эксплуатации и неравенства, а также нац. угнетения.
Социалистич. понимание С. включает равенство людей по отношению к средствам произ-ва (различие здесь сохраняется, пока остаются две формы обществ, собственности — государственная и кооперативная), равенство реальных политич. и юридич. прав. Распределит, аспект С. связан гл. обр. с распределением по труду; предполагается, что единств, достоинством
СПРАВЕДЛИВОСТЬ—СРАВНЕНИЕ
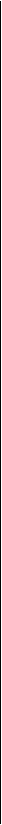 человека, определяющим его положение в обществе и права на пользование обществ, богатством, может быть лишь его социально-полезная деятельность. В социалистич. обществе социальное равенство индивидов еще не является полным. Различие индивидуальных способностей, связанных с прирожденными особенностями людей и отчасти с их социальным происхождением, с условиями воспитания, приводит к неравенству в потреблении и обществ, положении. «Маркс,— писал В. И. Ленин,— показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту „несправедливость", что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления „по работе" (а не по потребностям)» (Соч., т. 25, с. 438). Полное совпадение С. с социальным равенством людей достигается в коммунистич. обществе, где максимальное равенство возможностей предполагает всестороннее развитие способностей каждого, ликвидацию существенных различий в характере труда и не ограниченное внешне удовлетворение материальных и духовных потребностей человека.
человека, определяющим его положение в обществе и права на пользование обществ, богатством, может быть лишь его социально-полезная деятельность. В социалистич. обществе социальное равенство индивидов еще не является полным. Различие индивидуальных способностей, связанных с прирожденными особенностями людей и отчасти с их социальным происхождением, с условиями воспитания, приводит к неравенству в потреблении и обществ, положении. «Маркс,— писал В. И. Ленин,— показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту „несправедливость", что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления „по работе" (а не по потребностям)» (Соч., т. 25, с. 438). Полное совпадение С. с социальным равенством людей достигается в коммунистич. обществе, где максимальное равенство возможностей предполагает всестороннее развитие способностей каждого, ликвидацию существенных различий в характере труда и не ограниченное внешне удовлетворение материальных и духовных потребностей человека.
В истории философской и социальной мысли ставился вопрос не только о содержании С, но и о природе и происхождении самого понятия и отношения С. Обыденному, а часто и филос. сознанию то или иное понимание С. представлялось чем-то само собой разумеющимся, вытекающим из «естеств. порядка вещей» (или божеств, закона). С т. зр. этого мыслимого миропорядка и соответствующей ему «вечной С.» считалось возможным оценивать явления в любых условиях места и времени. Однако уже Гераклит указывал на относительность представления о С: «У бога прекрасно все, и хорошо, и справедливо, люди же одно считают несправедливым, другое — справедливым» («Материалисты Др. Греции», с. 50). Демокрит, напротив, подчеркивает объективную природу С, трактуя ее натуралистически: «То, что считается справедливым, не есть справедливое; несправедливо же то, что противно природе» (там же, с. 159). Эпикур, считая основанием С. естеств. порядок вещей, указывает вместе с тем на ее обществ.-договорное происхождение: «Справедливость, происходящая от природы, есть договор о полезном... Справедливость сама по себе не есть нечто, но в отношениях людей друг с другом... всегда она есть некоторый договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда» (там же, с. 217). Отсюда идея Эпикура об относит, характере С: при изменении обстоятельств полезное может стать вредным, а поэтому С.— несправедливостью.
Обществ.-конвенциональное понимание С. широко распространяется в эпоху Просвещения в связи с концепцией общественного договора. По Гельвецию, человек в первобытном состоянии не мог иметь представления о С: несправедливость — «это нарушение некоторого соглашения или закона... Значит, до закона не существует несправедливости» («О человеке», М., 1938, с. 154). Договорная трактовка С. означала сведение ее к правовому феномену, имеющему гос-законодат. происхождение: «Справедливость предполагает установленные законы» (там же, с. 155); люди могут следовать С. только из «благотворного страха» перед наказанием или из надежды на вознаграждение. И лишь в случае несовершенства законов вступают в силу нравств. критерии С, в этом случае она становится «...достойной награды добродетелью...» (см. там же). Правовой т. зр. в понимании С. придерживался и Гегель, считавший, что конституция, в к-рой «...разумная воля... доходит до сознания и понимания самой себя...», и есть «...существующая справедливость как действительность свободы
и развития ее разумных определений» (Соч., т. 3, М., 1956, с. 317).
Критику чисто правового понимания С. дает Кант. С его т. зр., «суд справедливости... содержит в себе противоречие», он основывается на понятии права людей, но определить право апеллирующего к суду не всегда может третейский судья, «он может и должен прислушиваться к голосу справедливости» лишь, тогда, когда речь идет о его собственных, но не чужих правах. «...„Строжайшее право — это величайшая несправедливость"...; но на пути права этому злу ничем помочь нельзя,...потому что справедливость относится только ксуду совести...» (Соч., т. 4, ч. 2, М., 1965, с. 144). Т. о., Кант относит С. к области морали, причем указывает, что знание С. имеет априорный характер. Неюридич. понимание С. часто влекло за собой отрицание ее обществ, происхождения, идеалистич. истолкование С. Эта вторая традиция в понимании природы С. идет еще с древности и средневековья (Сократ, Платон, стоицизм, схоластика) и продолжает существование до наст, времени. Неотомист Ренар, напр., пишет: «Справедливый разум... это подлинное знание основных, универсальных моральных принципов, с помощью которых мы судим об объективной ценности человеческих действий» (Renard H., The philosophy of morality, Milwaukee, [1953], p. 117). H аряду с абсолютистским пониманием С. в совр. бурж. философии распространено и релятивистски-субъективистское ее толкование (эмотивизм).
С т. зр. марксистского учения, понятие С. всегда имеет историч. характер, обусловлено условиями жизни людей (классов). В переломные эпохи истории понятие С. является одной из форм стихийного осознания угнетенными массами объективной историч. необходимости радикального изменения существующих условий. Однако в сознании людей оно выступает в виде понятия «вечной справедливости» (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 153). Классики марксизма неоднократно подчеркивали, что оценка социальной действительности с т. зр. понятия С. «...в научном отношении нисколько не подвигает нас вперед» (там же), «...представляет собой просто приложение морали к политической экономии...» (там же, т. 21, с. 184). Справедливыми можно назвать обществ, отношения людей лишь в том смысле, что они соответствуют историч. необходимости и практич. возможности создания условий жизни человека, отвечающих данной историч. эпохе, поскольку это нашло отражение в нравств. отношениях (а также в правовых), регулирующих повседневную деятельность людей.
Лит.: Л а ф а р г П., Экономия, детерминизм К. Маркса, Соч., т. 3, М.— Л., 1931, с. 56—97; Соловьев В., Спор о С, «Вести. Европы», 1894, кн. 4; е г о же, Конец спора, там же, № 7; С п е н с е р Г., Справедливость, пер. с англ., СПБ, 1898; Руссо Ж.-Ж., Об обществ, договоре, или Начала политич. права, СПБ, 1907, кн. 1и 4; Фейербах Л.„ Эвдемонизм, Избр. филос. произв., т. 1, М., 1955.
О. Дробницкий. Москва. Ф. Селиванов. Томск.
СРАВНЕНИЕ — познавательная операция (логич. рефлексия — И. Кант), посредством к-рой на основе нек-рого фиксир. признака — основания С. (см. Отношение) — устанавливается тождества (равенство) или различие объектов (вещей, состояний, свойств и пр.) путем их попарного сопоставления. Операция С. имеет смысл лишь для тех объектов, «...между которыми есть хоть какое-нибудь сходство» (Юм Д., Соч., т. 1, М., 1965, с. 103), т. е. определяется в совокупности однородных в к.-л. смысле объектов — таких, к-рые образуют множество. Признаки (предикаты), определяемые на этом множестве, служат «естественными» основаниями С.
Как познавательный акт С. следует отличать ог его логич. формы, к-рая является общей как для эле-
СРАВНЕНИЕ—СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД
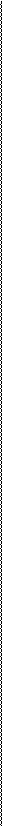 ментарных (одноактных), так и для сложных (многоактных) процедур С: в любом случае имеют место только две возможности — сравниваемые объекты а и b тождественны (по данному основанию) или же они различны (по тому же основанию). Если основания различия таковы, что отношение различия может рассматриваться как порядковое, то операция С. сводится к рассмотрению отношений а=Ь, а<Ъ, а>Ъ, являющихся исходными (основными) отношениями С. Неявное определение этих отношений дается аксиомами равенства (см. Равенство в логике и математике) и порядка, а их взаимная связь выражается т. н. аксиомой трихотомии: а=Ъ илиа<6, или а>Ъ. Все вместе они дают систему постулатов С, при этом свойства входящих в эти постулаты понятий «=», «<» и «>» не зависят, конечно, от «количественного» смысла, к-рый этим понятиям обычно приписывается; речь идет о порядковых свойствах нек-рого общего класса отношений (порядка отношений в широком смысле; таковы не только количественные, но и качественные отношения порядка, напр. по признаку красоты, ловкости, ума и пр.), из к-рых предметом матем. анализа становятся лишь те, для к-рых удается установить более или менее строгие методы С.
ментарных (одноактных), так и для сложных (многоактных) процедур С: в любом случае имеют место только две возможности — сравниваемые объекты а и b тождественны (по данному основанию) или же они различны (по тому же основанию). Если основания различия таковы, что отношение различия может рассматриваться как порядковое, то операция С. сводится к рассмотрению отношений а=Ь, а<Ъ, а>Ъ, являющихся исходными (основными) отношениями С. Неявное определение этих отношений дается аксиомами равенства (см. Равенство в логике и математике) и порядка, а их взаимная связь выражается т. н. аксиомой трихотомии: а=Ъ илиа<6, или а>Ъ. Все вместе они дают систему постулатов С, при этом свойства входящих в эти постулаты понятий «=», «<» и «>» не зависят, конечно, от «количественного» смысла, к-рый этим понятиям обычно приписывается; речь идет о порядковых свойствах нек-рого общего класса отношений (порядка отношений в широком смысле; таковы не только количественные, но и качественные отношения порядка, напр. по признаку красоты, ловкости, ума и пр.), из к-рых предметом матем. анализа становятся лишь те, для к-рых удается установить более или менее строгие методы С.
В любой матем. теории непременным условием рассмотрения матем. объектов является предположение об их сравнимости. Это приводит к тому, что естественно назвать абстракцией сравнимости. На этой абстракции основывается, напр., утверждение, к-рое является фундаментальным в канторов-ской концепции множества, что любые два элемента произвольного множества различимы между собой. На этой же абстракции основано С. самих множеств. Мы говорим «абстракция сравнимости» потому, что задача С. в общем случае является отнюдь не тривиальной, иногда даже просто неразрешимой: «Пусть А — множество всех четных чисел, больших 4, а В — множество всех чисел, являющихся суммами двух простых нечетных чисел. Мы до сих пор не знаем, какое из соотношений справедливо: А = В или A j=B, и не знаем даже, как подойти к решению этого вопроса» (С е р-пинский В., О теории множеств, пер. с польского, М., 1966, с. 6; о принципиально неразрешимых задачах С. см., напр., в ст. Тождества проблемы). По замечанию Юма, «мы можем производить... сравнение или когда оба объекта воспринимаются чувствами, или когда ни один из них не воспринимается или когда налицо только один из них» (Соч., т. 1, М., 1965, с. 169). Несовпадение этих видов С. проявляется уже в том факте, что в обоих последних случаях р а з л и-ч и е приходится рассматривать как отрицание тождества, тогда как в первом случае акт различения имеет и самостоятельное значение и рассматривается как самостоятельная операция (на нем, собственно, основывается идея математики без отрицания — см. Положительная логика). Очевидно, что С. на уровне чувств, восприятия не требует никаких абстракций. Наглядность придает понятию С. «фи-зич. смысл», но условие наглядности С. стеснительно для теории. Именно в теории, особенно в математике, типичны случаи (как в приведенном выше примере с множествами А и В), когда наглядное сопоставление объектов невозможно (это зависит, вообще говоря, от условий задания объектов) и, значит, приходится прибегать к рассуждению и, соответственно, к тем или иным абстракциям, на к-рых мы свои рассуждения основываем. Напр., рассуждение о сравнимости множества Ах всех нечетных чисел, больших 7, и множества Вх всех чисел, являющихся суммами трех нечетных простых чисел, мы основываем на абстракции потенциальной осуществимости, поскольку «...мы знаем метод, дающий возможность путем выполнения определенных, указанных этих методом вычисле-
ний, решить, какое из соотношений А1ФВХ или А г=Вг верно...», хотя число этих вычислений «...так велико, что ни одна существующая электронная вычислительная машина не была бы в состоянии их выполнить» (С е р и и н с к и й В., О теории множеств, с. 7). Основываясь на принципе исключенного третьего, мы можем считать сравнимыми и множества А ж В из первого примера, но в этом случае абстракция сравнимости будет зависеть уже от абстракции актуальной бесконечности. Иначе говоря, абстракция сравнимости является нетривиальным допущением в рамках др. матем. абстракций.
«Практически осуществимая» операция С. не должна, зависеть от к.-л. абстракций бесконечности и осущест-,' вимости. Так, принимая в рамках абстракции актут альной бесконечности, что два положительных иррациональных числа равны, если все соответственные десятичные знаки их десятичных приближений одинаковы, мы вполне отдаем себе отчет в том, что на практике никогда не удается решить вопрос о равенстве чисел в указанном смысле в виду принципиальной невозможности довести бесконечный процесс С. до конца. Основание С. при таком «платонистском» определении равенства «замешано» в бесконечном процессе. На практике, ограничиваясь приближенными вычислениями, приходится исключать такие «бесконечные основания» С. путем перехода к равенству в нек-ром интервале абстракции — прагматическому (или условному) равенству (о понятии «интервал абстракции» и связанному с ним понятию условного равенства см. в ст. Принцип абстракции, Тождество). Приходится, напр., отождествлять иррациональное число с его десятичным приближением, полагая в общем случае зависимость равенства веществ, чисел от условий взаимозаменимости их десятичных приближений, когда использование (подстановка) одного из них вместо другого не нарушает заданный интервал абстракции (к примеру, обеспечивает требуемую прак-тич. задачей степень точности). Бесконечный процесс С. заменяется здесь конечным приемом подстановки и экспериментальной проверкой ее результатов.
Лит.: Шатуновский С. О., Введение в анализ, Одесса, 1923, § 6 и 7; А р н о л ь д И. В., Теоретическая арифметика, М., 1938, гл. 3.
М. Ноеогёлов. Москва, ф. Лазарев- Калуга.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД — разновидность историч. метода (см. Историзм), в к-рой сравнение подчинено историч. исследованию природных или обществ, явлений. На основе С.-и. м. достигается познание различных историч. ступеней одного и того же явления или двух разных явлений, существующих одновременно, но находящихся на разных этапах развития. Связь сравнения и историзма позволяет выявить произошедшие в развитии изменения, реконструировать тенденции развития и его общий ход. В отличие от структурно-функционального анализа С.-и. м. исследует объекты как развивающиеся, т. е. его имманентной характеристикой является время. В отличие от генетич. метода, при помощи к-рого достигается выведение из начального этапа последующих, С.-и. м. ограничивается сопоставлением разных этапов развития для выявления их тождества и различия, для определения устойчивого, инвариантного в развитии.
Хотя уже Аристотель широко использовал сравнение в анализе политич. форм античности, господствующим методом науки С.-и. м. стал лишь после осно-ват. критики просветительской философии со стороны романтизма, пробудившего глубокий интерес к истории, к изучению иных форм культуры и социальности (напр., восточной культуры). В языкознании на основе С.-и. м. были реконструированы нек-рые особенности индоевроп. языка, выявлена специфика его развития. Конт и Спенсер видели в С.-и. м. основ-
122 «СРЕДНЕГО КЛАССА» ТЕОРИЯ—СРЕДНИЕ СЛОИ
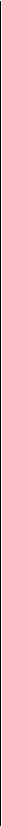 ное орудие социологии, причем толковали его в духе характерной для них эволюционистской линейно-прогрессивной трактовки развития. С применением С.-и. м. связаны первые успехи этнографии. М. Ковалевский распространил его на изучение истории и права. Этот метод нашел применение и в естественных науках — биологии, палеонтологии, геологии, где он позволил выработать научную картину эволюции форм жизни и изменения всего облика планеты.
ное орудие социологии, причем толковали его в духе характерной для них эволюционистской линейно-прогрессивной трактовки развития. С применением С.-и. м. связаны первые успехи этнографии. М. Ковалевский распространил его на изучение истории и права. Этот метод нашел применение и в естественных науках — биологии, палеонтологии, геологии, где он позволил выработать научную картину эволюции форм жизни и изменения всего облика планеты.
С возникновением структурно-функционального подхода началась линия критики С.-и. м. в этнографии и социологии, его ограниченности при изучении функционирования социальных систем. Такой же процесс происходил и в языкознании, где начало ему положили работы Соссюра. Критика псторицизма со стороны Трёльча, М. Вебера и др. послужила истоком формирования нового — типологич.— метода, хотя сам Вебер дал глубокие образцы сравнит, анализа социальных структур и мировых религий. В теориях культурно-историч. типов (Шпенглер, Тойнбп и др.), также резко критикующих псторицизм, вместе с тем большое место занимают: сопоставление и описание различных культур, хотя эти последние толкуются как замкнутые относительно друг друг* и не связанные во времени.
Хотя до 50-х гг. было заметно отставание сравнитель-но-историч. исследований в ряде наук (напр., в языкознании, что отмечают S. Andrews and J. Whatmough, Comparative and historical linguistics in America. 1930—1960, в сб.: Trends in European and American linguistics. 1930—1960, Antwerpen, 1961), однако в последнее время возрождается интерес к сравнит.-исто-рич. изучению культур, цивилизаций, социальных институтов — семьи, образования и нр. Эта тенденция характерна как для культурной антропологии, так и для социологии, что находит свое выражение в работах П. Сорокина, Р. Бенедикт, С. Анджеевского, в публикациях «International Journal of Comparative Sociology» и др.
Лит.: Тимирязев К. А., Историч. метод в биоло
гии, М.— Л., 1943; Смирницкий А. И., К вопросу
о С.-и. м. в языкознании, «Вопр. языкознания», 1952, № 4;
II о д к о р ы т о в Г. А., Историзм как метод научного поз
нания, Л., 1967; Method and perspective in anthropology, ed.
R. F. Spencer, Minneapolis, 1954; S ] о b e r g G., The compa
rative method in the social sciences, «Philosophy of Sciences»,
1955, v. 22, № 2; D u v e r g e r M., Methodes des sciences
sociales, P., 1961, p. 375—85; Mi lie V., Socioloski metod,
Beograd. 1965, s. 647—65. А. Огурцов. Москва.
«СРЕДНЕГО КЛАССА» ТЕОРИЯ — распростра
ненная в бурж. социологии апологетич. теория, ут
верждающая, что все западное (т. е. капиталистическое)
общество превращается или уже превратилось в об
щество единого «среднего класса», к-рый поглощает и
в к-ром растворяются все прежние социальные классы
и слои, включая пролетариат и буржуазию. Основой
подобного рода теорий является известный рост сред
них слоев в капиталистическом обществе. «С. к.» т.
получила особенно широкое отражение в амер. со-
циологич. лит-ре (К. Майер, Г. Грейсон, Дж. Бернард),
а также в работах мн. зап.-европ. социологов (Т. Мар
шалл, X. Шельский, П. Блетон, Р. Кремер и др.).
«С. к.» т. направлена против марксистско-ленинского
учения о классах. Одна из разновидностей «С. к.»
т.— «нового среднего класса» теория. См. также ст.
Служащие. г А. Вебер. Москва.
СРЕДНИЕ СЛОЙ — совокупность промежуточных обществ, групп в классово-антагонистич. обществе. В рабовладельч. обществе это были, напр., свободные мелкие собственники (земледельцы, ремесленники), в феодальном — бюргерство, формирующаяся торгово-пром. буржуазия. В капиталистич. обществе к С. с. принадлежат часть крестьян, ремесленники, кустари, мелкие промышленники и торговцы, лица
свободных профессий, нек-рые группы служащих и интеллигенции. С. с. сохраняются в переходный период от капитализма к социализму — вплоть до полной победы социализма.
В условиях капитализма экономич. основа существования С. с. неоднотипна: часть их связана с остатками старых соцнально-экономич. укладов (т. н. «старые» С. с.— крестьяне, ремесленники), другая — продукт развития совр. капитализма (т. н. «новые» С. с.— нек-рые слои чиновничества и интеллигенции). Чем выше уровень развития капитализма, тем больше удельный вес «новых» групп С. с, а в составе «старых» групп — гор. мелкой буржуазии. Напротив, чем ниже уровень развития капитализма, тем больше удельный вес в составе С. с. «старых» групп (мелкая буржуазия), а внутри последних — крестьянства. Крайне разнородна структура С. с. и в др. отношениях. Поэтому, в частности, марксизм отвергает немарксистские переднего класса» теорию и «нового среднего класса» теорию.
В составе «старых» С. с. особое место принадлежит крестьянству, к-рое при капитализме перестает быть единым классом. По мере того как усиливается дифференциация и пролетаризация крестьянства, все меньшая его часть может быть отнесена к С. с. В большинстве гл. капиталистич. стран она уж«сейчас очень невелика (оставаясь более значительной во Франции, Италии, Испании, Японии). Напротив, в капиталистич. странах зоны «третьего мира» сельские С. с. составляют пока значит, часть населения. В гл. капиталистич. странах особенно многочисленны теперь гор. С. с. В частности, несмотря на усиление процессов разорения, вытеснения и пролетаризации, относительно стабильным слоем остается гор. мелкая буржуазия — вследствие высоких темпов урбанизации и расширения сферы обслуживания и торговли. Численность «новых» групп, в той или иной мере относящихся к гор. С. с,— интеллигенции, чиновничества, адм.-управленч. кадров — быстро растет. Увеличивается и несамостоят. часть взрослого населения городов (домашние хозяйки, пенсионеры, студенты), в нек-рых отношениях близкая к С. с.
В условиях совр. гос.-монополистич. капитализма С. с. все больше подвергаются эксплуатации со стороны монополий и гос-ва. На этой основе происходит сближение коренных интересов рабочего класса и С. с. Однако это сближение происходит в противоречивых условиях, поскольку тенденция к известному нивелированию материального положения трудящихся сочетается с растущим разнообразием неносредств. интересов различных проф. групп.
В большинстве капиталистич. стран монополи-стич. буржуазия и ее партии сохраняют преобладающее идейпо-политич. влияние на С. с, используя для этого как экономич. рычаги, так и идейпо-политич. воздействия — парламентаризм и бурж. либерализм, идеологию и политику национализма, шовинизма и фашизма, клерикализм и т. д. Эти формы и методы воздействия чередуются и видоизменяются, но всегда опираются на особенности мелкобурж. психологии с ее причудливым переплетением элементов консерватизма и демократизма, реакционности и радикализма, национализма и патриотизма, с ее иллюзиями «средней линии» и «надклассовости» в политике. Черты мелкобуржуазности присущи сознанию не только мелких собственников, но и части интеллигенции, служащих, отсталым слоям рабочего класса. Это облегчает также широкое привлечение С. с. на сторону социал-демократич. партий.
Коммунистам, партии придают важное значение С. с. как потенциальному союзнику рабочего класса в борьбе за мир, демократию и социализм и стремятся к созданию широких антимонополистич. коалиций,
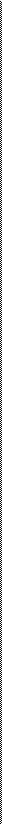 возглавляемых рабочим классом. См. также Крестьян
возглавляемых рабочим классом. См. также Крестьян
ство, Мелкая буржуазия, Служащие и лит. при этих
Статьях. -А- Вебер. Москва.
СРЕДСТВО — центр, звено в структуре осмысленной, полагающей и реализующей определ. цель человеческой деятельности. Предметы или действия, с к-рыми человек имеет дело как со С, объективно, т. е. в качестве налично данных предметов или действий, вовсе не необходимо есть С. Лишь в силу отношения к какой-то цели, т. е. в силу телеологич. определения, они приобретают значение С. Обычно после этого объективное определение предмета заслоняется той телеологич. зависимостью, в к-рой этот предмет получает определение С, оказываясь как бы лишь тем, что «служит» цели и имеет смысл лишь в связи с ней.
Первую попытку филос. трактовки проблемы С. предпринял Аристотель. Он еще не анализирует понятие С, но рассматривает «все то, что существует ради цели» (фактически С.) как «соответствующую цели причину», как нечто «среднее» между целью и тем, что ею причинено. Из др. попыток следует упомянуть разработку т. н. вульгарной телеологией формального отношения цели и С, хотя понятие С. еще не получило здесь самостоят, значения.
Обстоят, анализ С. был дан нем. классич. философией, особенно Гегелем, к-рый выступил не только против логич. недостаточности вульгарного понимания С, но и против тех социальных сил, к-рые обосновывают на нем практич. иезуитизм, исходящий из известного тезиса — «цель оправдывает С». Рассматривая акт целеполагания как своего рода «умозаключение» от цели к результату деятельности («выполненной цели»), Гегель отмечает, что роль С. в «умозаключении действования» лишь внешне подобна роли среднего термина формального умозаключения. На деле С. есть не только определенность объекта через цель, но и определенность самой цели. Как невозможно определение С. безотносительно к цели, так и сама цель, помимо отношения к С, есть не определ. цель, а лишь абстрактное стремление, при к-ром результат и вся совокупность последствий деятельности могут оказаться чем-то совершенно неожиданным и непостижимым. В этой связи необходимо достаточно четко различать в С. то содержание, к-рое соотносится с целью, т. е. С. определения цели, и то реальное содержание, к-рое включается в акт чело-веч, деятельности и является С. реализации. Именно из-за отсутствия такого различения нередко на деле реализуются совсем не те цели, к к-рым стремились. По мнению Гегеля, так происходит потому, что С. принимается за всего лишь механич. объект, подведенный под определение цели, а собственное (вне цели и целеполагания) бытие этого предмета остается где-то «по ту сторону» его телеологич. определения. В действительности же «...цель сама по себе есть безжизненное всеобщее...», «...голый результат есть труп...», и «суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением» (Соч., т. 4, М., 1959, с. 1 — 2). Как показывает Гегель, С. обладает существ, преимуществом перед целью — «...всеобщностью наличного бытия...», к-рого лишена «...субъективная единичность цели...» (там же, т. 6, М., 1939, с. 202). Поэтому С. есть нечто «более высокое», чем «цели конечной целесообразности», и «плуг почтеннее», чем те цели, достижению к-рых служит его применение. «В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен ей» (там же, с. 205).
Гегелю, т. о., удалось показать взаимную необходимость в отношении цели и С. ее определения. Этим, однако, решается только часть проблемы. Еще более важно проследить' взаимную необходимость в отношении С. реализации, цели и результата деятельности.
СТВО
Результат должен быть понят как продукт и функция деятельности, в конечном счете — как функция С. реализации. Именно поэтому тезис «цель оправдывает С», этич. порочность к-рого была показана Кантом, а логическая — Гегелем, оказывается реально несостоятельным. Если результат деятельности человека есть функция С, то применение «не благих», «не гуманных» С, к-рое оправдывается стремлением к «благой цели» и «идеалу», может означать лишь попытку спрятать под неопределенностью их содержания отличную от них действит. цель. К идеалу, к общей цели может приблизить лишь такая частная деятельность, к-рая всякий раз в нек-ром особенном
воплощает... всеобщность содержания этого идеала.
Только в этом случае С. не нуждается в оправдании, в соотнесении с сущностями, лежащими за пределами его собств. содержания. Там же, где частная деятельность и общая цель не совпадают, где С. нуждаются в оправдании, там имеет место такая особенная цель,' к-рая может быть соотнесена с идеалом лишь формально, а С. обособляются, превращаются в независимые от цели сущности, в самоцель (см. К. Маркс, К критике гегелевской философии права, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч.. 2 изд., т. 1, с. 219—368).
Процесс обособления С, превращение его в самоцель, в ранних его формах подмеченный Руссо и Гегелем, а в более развитый период проанализированный Марксом, приобрел особенно резкий характер на рубеже 19—20 вв., когда мир человеч. действительности стал превращаться во все более развитый имогуществ. мир С, к-рый живет по своим особым законам и все более подчиняет им цели человека. В попытках понять этот процесс мн. мыслители поставили под сомнение всю европ. научно-технич. культуру. Они указывали, что научно-технпч. развитие и вообще мир С, как таковые, лишены гуманпстич. оснований и нравств. критериев. Многие из критиков новейшей научно-технич. магии усматривали выход из этого тупика в возвращении вспять к простоте и ясности прошлого, к идеалам народности и нецерк. христианства (Толстой), народности и православия (Достоевский) и т. д. По сути дела к этому сводилась и выдвинутая Гуссерлем идея постоянной «реактивации» первичных интенций и целей человеч. жизни, постоянного возвращения к ее истокам, с тем чтобы на этом пути восстановить утерянную иерархию целей и С. Однако надо иметь в виду, что совр. мир уже не мог бы существовать одними непосредств. целями и в одних определениях настоящего, т. е. по существу вне врем, измерений. Человек выносит свои цели все дальше вперед и, работая на будущее, определяет свое настоящее. Поэтому проблема состоит не в возрождении уже потерявших свою силу целей, а в выяснении актуальной, специфической для данного уровня социально-исто-рич. развития иерархии целеполагания.
Для совр. эпохи важнейший аспект проблемы С. заключается в том, что разум человека, изыскивая хитрые и могущественные С, часто забывает, что в результате включения предмета в человеч. деятельность создается своеобразная «вторая природа», принципиально новый вид необходимости. Предмет изымается из его природной связи и включается в сверх-прнродную связь человеч. бытия. Связь причин и действий трансформируется здесь в телеологич. связь целей, С. и результатов, необходимость природы — в свободу, а то и в произвол человеч. деятельности. Структура естеств. бытия удваивается в структуре человеч. деятельности, иногда совмещаясь с ней, а иногда сталкиваясь. Т. о., включение предмета в связь человеч. деятельности не только пробуждает дремлющие в нем силы, но и порождает новые. Незнание размеров и могущества первых и особенно вторых может приводить и нередко действительно приводит к
СТАЛИН
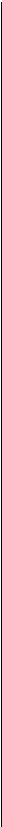 конфликту внутр. необходимости деятельности с внешней необходимостью, т. е. к конфликту структуры деятельности и структуры бытия. Н. Трубников. Москва. Лит. см. при ст. Цель.
конфликту внутр. необходимости деятельности с внешней необходимостью, т. е. к конфликту структуры деятельности и структуры бытия. Н. Трубников. Москва. Лит. см. при ст. Цель.

|
СТАЛИН (Джугашвили), Иосиф Виссарионович (21 декабря 1879 — 5 марта 1953) — деятель КПСС и международного рабочего движения. Родился в г. Гори (Грузия) в семье кустаря-сапожника. После окончания духовного училища (1894) вступил в революц. движение. Член Коммунистической партии с 1898. Участвовал в революции 1905—1907 и был одним из руководителей рабочего движения в Закавказье. С 1912 — член ЦК партии. Во время подпольной деятельности неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В марте 1917 введен в состав Бюро ЦК, в октябре — член партийного Военно-революц. центра по подготовке вооруж. восстания. С нояб. 1917 С.—народный комиссар по делам национальностей, с 1919 — народный комиссар Гос. контроля (позднее — Рабкри-на). В 1922—52—генеральный секретарь, в 1952—53— первый секретарь ЦК КПСС. В 1941 — 1953 — председатель Совета Министров СССР. В 1941—45 — председатель Гос. Комитета Обороны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Находясь длительный период на посту генерального секретаря ЦК партии, С, как теоретик и крупный организатор, вместе с другими руководящими деятелями партии возглавил борьбу против троцкистов, правых оппортунистов, бурж. националистов. Своими тео-ретич. работами и практич. деятельностью С. внес важный вклад в идейно-политич. борьбу с врагами ленинизма.
Вместе с тем С. допустил теоретич. и политич. ошибки, к-рые приобрели тяжелый характер в последний период его жизни.
В. И. Ленин, положительно оценивая нек-рые стороны деятельности С, вместе с тем указывал на его серьезные личные недостатки. Ленин обратился к очередному парт, съезду с письмом, в к-ром отмечал, что С., «...сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью» (Соч., т. 36, с. 544). «Сталин слишком груб,— писал Ленин,— и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека» (там же, с. 545). Ленин предложил съезду «...обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лойялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.» (там же, с. 546).
Предложение Ленина было рассмотрено XIII съездом партии (1924). Учитывая нежелательность смены руководства партии в условиях обострившейся тогда внутри партии и в междунар. коммунистич. движении борьбы против троцкизма и других оппорту-нистич. течений, съезд решил оставить С. на посту генерального секретаря ЦК с тем, чтобы он учел ленинскую критику. В первый период после смерти Ленина С. считался с его критич. замечаниями. Но в дальнейшем С, переоценив свои заслуги, уверовал в собственную непогрешимость. Нек-рые ограничения внутрипартийной и советской демократии, связанные с условиями ожесточ. борьбы с классовым врагом
и его агентурой, а позднее с условиями войны, С. начал возводить в норму внутрипарт. и гос. жизни, грубо попирал ленинские принципы коллективного руководства и фактически оказался вне критики (см. «КПСС в решениях и резолюциях...», 7 изд., ч. 4, 1960, с. 229).
В результате этого постепенно сложился культ личности Сталина, к-рый имел тяжелые последствия для партии и сов. народа. В связи с ошибочным тезисом С. о том, что в условиях победившего социализма в социалистич. гос-ве продолжает обостряться классовая борьба, стали допускаться злоупотребления властью, нарушения революц. законности, массовые репрессии. Это оказало отрицательное воздействие на ход социалистического развития СССР, хотя и не остановило общего поступат. процесса роста эконо-мич. мощи, культурно-технич. и научного прогресса СССР. Культ личности в корне противоречит природе социалистич. строя, теории марксизма-ленинизма. «Никакой культ личности не мог изменить природу социалистического государства, имеющего в своей основе общественную собственность на средства производства, союз рабочего класса с крестьянством и дружбу народов... Думать, что отдельная личность, даже такая крупная, как Сталин, могла изменить наш общественно-политический строй, значит впасть в глубокое противоречие с фактами, с марксизмом, с истиной, впасть в идеализм» (там же, с. 231).
XX съезд КПСС (1956) осудил культ личности С. Съезд обязал ЦК КПСС «...последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективного партийного руководства, выработанных великим Лениным» (там же, с. 208). Линия партии нашла свое дальнейшее развитие в постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 «О преодолении культа личности и его последствий», а также в решениях последующих съездов партии, пленумов ЦК и др. партийных документах.
С. принадлежит большое число работ по теории марксизма-ленинизма. В работе «Марксизм и национальный вопрос» (1913) С. разрабатывал проблемы нации и национальный вопрос. С. был одним из первых марксистов, поставивших и разработавших вопрос о ленинизме, как марксизме эпохи империализма и пролет, революций [«Об основах ленинизма» (1924), «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» (1924), «К вопросам ленинизма» (1926), «Национальный вопрос и ленинизм» (1929)]. Эти работы были направлены против врагов ленинизма, пытавшихся изображать ленинизм как чисто «русское» явление. С. показал, что ленинизм представляет собой марксизм эпохи империализма и пролет, революций, т. е. учение интернациональное.
В докладах и выступлениях на съездах и конференциях партии, пленумах ЦК, заседаниях Коминтерна С. отстаивал ленинское учение о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране, анализировал проблемы развития социализма и междунар. революц. движения в эпоху общего кризиса капитализма, проблемы перехода от капитализма к социализму и ошибки правого и «левого» оппортунизма в этом вопросе [«О правом уклоне в ВКП(б)», 1929, и др.], проблемы социалистич. переустройства сел. х-ва и вредные механистич. теории «равновесия», «самотека» и «устойчивости» в деревне («К вопросам аграрной политики в СССР», 1929), движущие силы социалистич. общества (Доклад на XVIII съезде партии, 1939).
В докладах п выступлениях С. периода Великой Отечественной войны разоблачалась реакционная
 2015-05-06
2015-05-06 509
509







