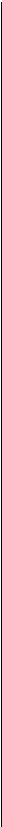 лом. Это — тонкое и подвижное вещество, представляющее собой смесь легко проницаемого воздуха и деятельного огня. У человека оно сконцентрировано прежде всего в мозге, откуда по нервам распространяется по всему телу. Гл. назначение духа — служить эластичной средой, посредством к-рой человеческие чувства воспринимают внешние предметы, воздействующие на нас в соответствии со степенью смешения в них тепла и холода.
лом. Это — тонкое и подвижное вещество, представляющее собой смесь легко проницаемого воздуха и деятельного огня. У человека оно сконцентрировано прежде всего в мозге, откуда по нервам распространяется по всему телу. Гл. назначение духа — служить эластичной средой, посредством к-рой человеческие чувства воспринимают внешние предметы, воздействующие на нас в соответствии со степенью смешения в них тепла и холода.
Теория познания Т.— материалистич. сенсуализм. «Мышление значительно менее совершенно, чем чувство», к-рое и является основой познания («О природе вещей согласно их собственным началам» — «De rerum natura iuxta propria principia», liber 1—2, Romae, 1565; расшир. изд., liber 1—9, Neapoli, 1586; совр. изд., v. 1, Modena, 1910; v. 2, Gen., 1913, v. 3, Roma, 1923). Все выводы рассудка — выводы по аналогии, в соответствии с некогда воспринятым, и догадки по воспоминаниям. Критерий истины — опыт. Этич. доктрина Т. носит натуралистич. характер. Стремление к самосохранению, присущее всей природе, определяет, по Т., и поведение любого человека. Сенсуалнстнч. гедонизм Т. направлен против аскетпч. морали.
|
|
|
Наряду с природным духом человека Т. признавал существование бестелесной и бессмертной души, вложенной в человека непосредственно богом. Предвосхищая идеи деизма, Т. говорил о том, что материя и мир некогда были созданы богом, но с тех пор существуют по собств. законам.
Последователями Т. в Италии были Ф. Мартелли, С. Куатромани, А.Перспо, Кампанелла. Влияние Т.испытал Бруно. Высокую оценку его попыткам создать метод опытного исследования природы дал Ф. Бэкон.
С оч.: Varii de naturalibus rebus libelli. Ab A. Persio editi, pt 1—8, Venetiis, 1590.
Лит.: История философии, т. 2, М., 1941, с. 47—52; К о-
релин М. С, Ранний итальянский гуманизм и его исто
риография, вып. 1 — 2, М., 1892; Соколов В. В., Очерки
философии эпохи Возрождения, М., 1962; Зубов В. П.,
Развитие атомистических представлений до начала 19 в.,М.,
1965; Горфункель А. X., Материализм и богословие в
философии Б. Т., в сб.: Итал. Возрождение, [Л.1, 1966;
Fiorentino F., В. Telesio, v. 1—2, Firenze, 1872—74;
Gentile G., В. Telesio, Bari, 1911; его же, В. Telesio,
в его кн.: I] pensiero italiano del Rinascimento, 3 ed., Firenze,
1940; Abbagnano N., Telesio, Mil., 1941; Troilo E.,
B. Telesio, 2 ed., Roma, 1924; Zavattari E., La visione
della vita nel Rinascimento e B. Telesio, Torino, 1923;
Soleri G., Telesio, Brescia, 1944; Firpo L., Filosotia
italiana e controriforma, Torino, 1951, p. 38—55; S a i 11 a G.,
II pensiero italiano neH'TImanesimo e nel Rinascimento, v. 3,
Bologna, 1951, p. 1—77. В. Соколов. Мссква.
ТЕЛЕОЛОГИЯ (от греч. тёХос;, род. падеж xiXeoc, — результат, завершение, цель и^б-pog—слово, учение)— 1) онтологич. учения о наличии в природе и обществе объективных, внечеловеч. целей, целевых зависимостей; 2) приемы познания (в т. ч. формы науч. объяснения), в к-рых используется категория цели и входящие в ее смысловое поле понятия (методологич. Т.); 3) описание поведения, определяемого сознат. целями, структуры и движения этих целей; 4) общая фплос. теория цели и выражаемых ею отношений. Наиболее употребителен термин «Т.» для обозначения концепций, входящих в первую группу и носящих обычно иде-алистич. характер (телеологизм, фпналнзм, идеалис-тич. Т.), поскольку целевая причина понимается как идеальный фактор, определяющий материальные процессы, или поскольку целевая зависимость противопоставляется причинной. Последнее значение имел в виду X. Вольф, автор термина «Т.» (Chr. Wolf, Philo-sophia Rationalis sive Logica, Halae, 1740). Такого рода Т. связана обычно с перенесением на низшие уровни организации материи специфич. особенностей высших проявлений целесообразности, особенно сознат. деятельности человека. Онтологич. Т. принимает две осн. формы: 1У Т.внешних целей (когда цели вешей помещаются вне данных вещей), выступающая как Т.
|
|
|
всеобщей взаимной полезности (все вещи взаимно приспособлены и служат друг другу), антропоцентрическая Т. или трансцендентная Т. (целеполагающее начало находится вне мира); 2) имманентная Т. (Т. внутр. целей, «аутотелеология»), когда целевое начало полагается внутри вещей и может иметь антропоморфный (бпо-, социоморфный) характер.
Зарождающаяся в древних филос. учениях противоположность телеология, и нетелеологич. воззрений не совпадает полностью с противоположностью материализма и идеализма: материалистич. учениям иногда свойственны черты Т. (санкхья, Мо-цзы, Диоген Аполлонийскпй), а идеалпетич. учения бывают нетелеологическими (буддизм). В др.-греч. философии телеология, ндеп впервые развиваются в систему Платоном. Аристотель вводит понятие целевой причины, выражающей внутр. организацию и обеспечивающей осуществление и сохранение формы вещи. Динамнч. аспект цели — формы он обозначает термином энтелехия. В учении стоиков антропоцентрич. Т. сочетается с идеей «сходства», «согласия» между причинными цепями. Неоплатонизм придает Т. мистич. вид, объединяя ее с представлением об эстетич. ценности. В ср.-век. философии осн. чертами Т. являются креационизм, антропоцентризм, учение об иерархии целей, аксио-логич. интерпретация причинно-целевых отношений в природе.
В новое время успехи науки, достигнутые на основе принципов детерминистич. мышления, заставляют сторонников Т. согласовывать ее с принципом причинности. Идею взаимосогласованности причинных и целевых отношений впервые выражает Лейбниц в учении о предустановленной гармонии, связывая Т. с проблемами динамики, оптики, варпац. исчисления, с осознанием значения информац. отношений. X. Вольф превратил лейбницевскую Т. в учение о внешней полезности, что послужило закреплению взгляда на Т. вообще как на пошлую концепцию, согласно к-рой «...кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость творца» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 350).
Глубокому переосмыслению подвергается Т. в нем. классич. философии. Одна линия анализа связана здесь с фактами органич. целесообразности и их интерпретацией. Эти факты, как показал Кант, вынуждают размышлять об организмах по аналогии с деятельностью человека так, как будто процессы в них происходят согласно внутр. целям. Здесь понятие целевой причины, будучи антропоморфным по своему происхождению, играет роль «...хорошего эвристического принципа...», к-рый побуждает исследовать реальные причинные отношения (см. И. Кант, Соч., т. 5, М., 1966, с. 441). Тем самым вводится понятие методологич. Т., противопоставляемой как механич. детерминизму, так и финализму. Вторая линия анализа, также берущая начало от Канта, связана с целесообразным характером человеч. деятельности, к-рая по самой своей природе не может быть понята вне сознательно формулируемых целей и их движения. В этом смысле Т. выступает как диалектика деятельности. После Какта эту линию развивает Фихте, у к-рого Т. есть учение о нравств. целях человека и вместе с тем способ объяснения истории. В идеализме Шеллинга и Гегеля кан-товская внутр. цель превращается в объективное отношение самой действительности, к-рая толкуется как царство духа. По существу Гегель в форме Т. выдвигает идею объективной закономерности развития общества.
|
|
|
Вторая половина 19 в. отмечена углубляющимся кризисом механистич. детерминизма и растущей потребностью в новых формах и методах науч. мышления. Одним из путей поиска таких форм оказываются раз-
ТЕЛЕОЛОГИЯ—ТЕМПЕРАМЕНТ
195-
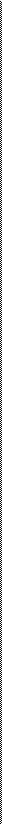 личные модификации Т. Этот процесс сопровождается крайне сложным переплетением элементов методология. Т. с филос. обобщениями в духе онтология, учений. Таков, напр., неовитализм в биологии (X. Дриш, И. Рейнке, Я. Икскюль и др.): экспериментально доказав несостоятельность механистпч. интерпретации эмбриогенеза, регенерации и нек-рых других бпологич. процессов и справедливо подчеркнув роль целостности организма, неовиталисты потребовали обращения к целевым факторам на надэнергетич. уровне регуляции и в этой связи возродили концепцию финалпзма. Идеи целостного подхода получили развитие в организми-ческих теориях, причем нек-рые из них опирались на идеалистич. Т., в т. ч. витализм (холизм, органич. индетерминизм), а другие строились на антивнталистпч. основаниях (теория открытых систем и т. н. телеология, уравнения Л. Берталанфи, описывающие поведение систем, к-рые как бы стремятся к нек-рому заранее определенному состоянию). Телеология, анализ, понимаемый как принцип науч. объяснения, сыграл важнейшую роль в развитии физиология, учений. В частности, физиология активности Н. А. Бершнтейна в качестве одного из центр, понятий при изучении поведения использует понятие цели. На методологич. Т. опирается структурно-функциональный анализ в социологии. Телеология, категории лежат в основе совр. психология, исследований поведения п деятельности. Значение рационального смысла Т. существенно возросло в связи с развитием кибернетики и лежащих в ее основе способов науч. мышления (указание на явления саморегуляции, самоорганизации, на роль обратной связи, информац. отношений, на общие принципы управления в природных и социальных системах, в человеч. деятельности и технике). Примеяательно, ято статья, сяитающаяся актом рождения кибернетики, была посвящена анализу целенаправленных, телеология, систем (А. Розенблют, Н. Винер, Дж. Бпгелоу, Поведение, целенаправленность и телеология, в кн.: Н. Винер, Кибернетика, пер. с англ., 2 изд., М., 1968). В связи с развитием кибернетики целевая причинность и телеология, способ объяснения перестали трактоваться как исключит, принадлежность сферы человеч. сознания и вошли в широкий науч. обиход. Это относится в первую очередь к дисциплинам, в к-рых получил развитие системный подход (см. Система), поскольку для большинства систем важнейшей характеристикой является целенаправленность их поведения и функционирования.
личные модификации Т. Этот процесс сопровождается крайне сложным переплетением элементов методология. Т. с филос. обобщениями в духе онтология, учений. Таков, напр., неовитализм в биологии (X. Дриш, И. Рейнке, Я. Икскюль и др.): экспериментально доказав несостоятельность механистпч. интерпретации эмбриогенеза, регенерации и нек-рых других бпологич. процессов и справедливо подчеркнув роль целостности организма, неовиталисты потребовали обращения к целевым факторам на надэнергетич. уровне регуляции и в этой связи возродили концепцию финалпзма. Идеи целостного подхода получили развитие в организми-ческих теориях, причем нек-рые из них опирались на идеалистич. Т., в т. ч. витализм (холизм, органич. индетерминизм), а другие строились на антивнталистпч. основаниях (теория открытых систем и т. н. телеология, уравнения Л. Берталанфи, описывающие поведение систем, к-рые как бы стремятся к нек-рому заранее определенному состоянию). Телеология, анализ, понимаемый как принцип науч. объяснения, сыграл важнейшую роль в развитии физиология, учений. В частности, физиология активности Н. А. Бершнтейна в качестве одного из центр, понятий при изучении поведения использует понятие цели. На методологич. Т. опирается структурно-функциональный анализ в социологии. Телеология, категории лежат в основе совр. психология, исследований поведения п деятельности. Значение рационального смысла Т. существенно возросло в связи с развитием кибернетики и лежащих в ее основе способов науч. мышления (указание на явления саморегуляции, самоорганизации, на роль обратной связи, информац. отношений, на общие принципы управления в природных и социальных системах, в человеч. деятельности и технике). Примеяательно, ято статья, сяитающаяся актом рождения кибернетики, была посвящена анализу целенаправленных, телеология, систем (А. Розенблют, Н. Винер, Дж. Бпгелоу, Поведение, целенаправленность и телеология, в кн.: Н. Винер, Кибернетика, пер. с англ., 2 изд., М., 1968). В связи с развитием кибернетики целевая причинность и телеология, способ объяснения перестали трактоваться как исключит, принадлежность сферы человеч. сознания и вошли в широкий науч. обиход. Это относится в первую очередь к дисциплинам, в к-рых получил развитие системный подход (см. Система), поскольку для большинства систем важнейшей характеристикой является целенаправленность их поведения и функционирования.
|
|
|
Осознание плодотворности подхода к исследованию ряда объектов с позиций методологич. Т. и вместе с тем стремление освободиться от история, наслоений, связанных с термином «Т.», породили попытки отказаться от этого термина и заменить его термином «те-леономия», характеризующим закономерную связь процессов, к-рые определяются наяальной программой, и поведение систем с соответствующим образом организованной обратной связью. Собственно телеология, отношения человеч. деятельности с определяющей ролью сознат. цели могут при этом рассматриваться как подкласс класса телеономич. отношений. Параллельно с расширением сферы влияния телео-логич. методов в науч. познании с сер. 19 в. идет процесс интенсивной разработки проблем Т. в философии. Наряду с идеалистич. Т., занимающей видное место в системах А. Шопенгауэра, Г. Лотце, Э. Гартмана, А. Бергсона и др., большую популярность приобретает телеологизм неокантианцев, особенно марбургской школы. В рамках этой школы кантовское различение двух видов причинности используется для обоснования противопоставления мира природы и мира свободы (т.е. мира человеч. культуры), а вместе с тем — и двух видов знания, научного и философского. Телеология, подход занимает центр, место в аксиология, учениях, в
обосновании смысла жизни и истории, регулятивной роли ценностей в социальных процессах. В духе докан-товской метафизики отстаивается Т. в неотомизме. Те-истич. взгляды наТ. развиваются рядом представителей персонализма и критич. реализма. У Тейяра де Шар-дена и его последователей Т. связана с идеей направленного, поступат. развития универсума и служит обоснованием абстрактного гуманизма. В нек-рых школах предпринимаются попытки соединить традиционную идеалистич. Т. с новыми данными естествознания: телеология, истолкование понятия информации в нео-фпналпзме, тейярднзме, т. н. информационном витализме; попытки обосновать Т. явлениями самосознания как не поддающимися кибернетия. моделированию (А. Портман, Г. Фано п др.). В качестве критиков Т. в совр. бурж. философии выступают Н. Гартман и нек-рые представители неопозитивизма. Надо, однако, отметить, что неопозитивистами довольно широко исследована проблема телеологич. объяснения в науке (Р. Брейтуэйт, К. Гемпель, Э. Нагель, В. Штегмюллер и др.). Гораздо менее популярен вульгарный антителе-ологизм, выступающий с механистич. позиций (Л. Бюх-нер, Ф. Ланге, Э. Рабо, К. Неергор и др.) и отождествляющий Т. с ее наиболее примитивными формами. Диалектич. материализм отвергает в равной мере как идеалистич. Т., так и вульгарный антителеологизм. В философии истории до Маркса телеологич. форму (ведущую к провиденциализму) принимала прежде всего идея объективной закономерности обществ, жизни. Объяснив природу объективных законов общества не в отрыве, а в связи со свободной деятельностью людей, марксизм подорвал основу Т. в этой области. Вместе с тем основоположники марксизма подчеркивали позитивное значение телеологич. способа объяснения. В частности, Маркс указывал на «рациональный смысл» Т. в естеств. науках (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 30, с. 475) и применял категорию цели для выражения объективной направленности функционирования п развития экономия, систем. Энгельс обращал внимание на ценное содержание понятия внутр. цели. Высмеивая Т. внешних целей, он в то же время выступал против отождествления с ней всей Т. (см. там же, т. 20, с. 67, 523). Категория цели и связанные с ней понятия используются в дпалектпч. материализме при анализе данных совр. естествознания, а также при изучении деятельности человека.
Лит.: Жана П., Конечные причины, «Тр. Киевской Духовной академии», 1877, № 6 — 8; Фролов И. Т., Детерминизм и Т., «ВФ», 1958, № 2; Б у н г е М., Причинность, пер. сангл.,М., 1962, с. J00 —102, 342—45; С о к о л о в В. В., Философия Спинозы и современность, М., 1964, е. 215—22; Асмус В. Ф., Проблема целесообразности в учении Канта об органич. природе и в эстетике, в кн.: Кант И., Соч., т. 5, М., 1966; Украинцев Б. С, Процессы самоуправления и причинность, «ВФ», 1968, К» 4; Трубниковы. Н.,
0 категориях «цель», «средство», «результат», М., 1968; Е is-
1 е г R., Der Zweck, seine Bedeutung fur Natur und Geist,
В., 1914; Theiler W.. Zur Geschichte der teleologischen
Naturbetrachtung bis auf Aristoteles, Z.—Lpz., 1925; Teleolo-
gical mechanisms, N.Y., 1948 («Annals of the N.Y. Acad, of
Sciences», v. 50); HartmannN., Teleologisches Denken, В.,
1951; M о г e a u J., Au carrefour de deux philosophies: finalisme
et determinisme,-. [P., 1955] («Revue Generale des sciences»,
t. 62, № 7—8, Suppl.); Causalita e finalita, [Pirenze], 1959;
S с h m i t z J., Disput iiber das teleologische Denken, Mainz,
1960; Klaus G., Das Verhaltnis von Kausalitat und Teleo-
logie in kybernetischer Sicht, «Dtsch. Z. Philos.», 1960, H. 10;
Mayr E., Cause and Effect in Biology. Kinds of causes,
predictability and teleology..., «Science», 1961, v. 134,,Ts"j 3489;
Kochariski Z., Problem celowosci we wsputczesnei bio-
logii, Warsz., 1966. M. Макаров. Тарту.
ТЕЛЕПАТИЯ — см. Парапсихология.
ТЕМПЕРАМЕНТ — комплексная характеристика индивида со стороны динамич. особенностей его психич. деятельности. Во внутр. структуре Т. можно выделить три гл. компонента, охватывающих практически весь комплекс его поведенческих реализаций. Наиболее широкое значение имеет общая активность индивида, к-рая выражает качества, наилучшим образом
13*
ТЕМПЕРАМЕНТ
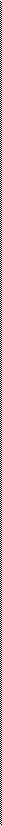 отвечающие понятию «динамических» особенностей личности,— от вялости, инертности и пассивного созер-цательства до высших степеней энергии, мощной стремительности действий и постоянного подъема.
отвечающие понятию «динамических» особенностей личности,— от вялости, инертности и пассивного созер-цательства до высших степеней энергии, мощной стремительности действий и постоянного подъема.
Второй компонент Т.— двигательный, или моторный. Ведущую роль в нем играют качества, связанные с функцией двигательного (и специально речедвигательного) аппарата. С помощью моторики актуализируется внутр. динамика психич. состояний со всеми ее индивидуальными градациями. Среди ди-намич. качеств двпгат. реагирования, обеспечивающих эту актуализацию, выделяются такие параметры, как быстрота, сила, резкость, темп, градиент, амплитуда и ряд др. признаков мышечного движения, частым к-рых может также характеризовать н речевую моторику индивида.
Третий компонент Т.— эмоциональность, включающая совокупность свойств и качеств, к-рые выражают особенности возникновения, протекания п прекращения положительных и отрицательных, предметных и обобщенных, моральных и интеллектуальных чувств и настроений. Ключевыми переменными эмоциональности являются впечатлительность, импульсивность и эмоц. лабильность. Впечатлительность выражает степень аффективной восприимчивости субьекта. Импульсивность обозначает быстроту, с к-рой эмоция, будучи раз вызванной, распространяется на др. сферы психики, становится побудит, силой поступков и действий. Под эмоц. лабильностью обычно понимается скорость, с к-рой у индивида прекращается данное эмоц. состояние или происходит смена одного переживания другим; это, т. о., мера, обратная эмоц. устойчивости, т. е. длительности сохранения и переживания возникших эмоций.
Эти три компонента с их разнообразными проявлениями образуют в реальных актах человеческого поведения то своеобразное единство динамич. аспектов побуждения, действия и переживания, к-рое, с одной стороны, позволяет говорить о целостности проявлений Т. как личностной категории, а с другой, дает возможность относительно четко отмежевать понятие Т. от остальных традиционно выделяемых психпч. образований личности — направленности, характера, способностей и др.
Вопрос о поведенческих проявлениях Т. неразрывно связан с вопросом о факторах, обусловливающих эти проявления. В истории учений о личности можно выделить три осн. системы взглядов на эти факторы, а также на типы Т. Древнейшими из них являются г у-моральные теории, связывающие Т. со свойствами тех или иных жидких сред организма. По мысли Гиппократа, уровень жизнедеятельности определяется соотношением между четырьмя жидкостями, циркулирующими в человеческом организме:кровью, желчью, черной желчью и слизью (лимфой, флегмой); соотношение этих жидкостей, индивидуальное для каждого организма, обозначалось греч. термином xpdoig (смесь, сочетание), а на лат. языке temperamentum. Первоначально говорили о большом числе типов Т., но в конечном счете это число было сведено к четырем, по количеству гл. жидкостей, гипотетич. преобладание к-рых в организме и дало название основным Т.: сангвиническому (от лат. sanguis — кровь), холерическому (от греч. %ok'r{ — желчь), меланхолическому (от греч. jxeXaiva x°^~ri — черная желчь) и флегматическому (от греч. cpXsyua — слизь).
Психологич. характеристика этих четырех Т. была обобщена и систематизирована уже в новое время Кантом, допустившим, однако, в своих толкованиях смешение черт Т. и характера. Согласно Канту и последующим интерпретаторам, сангвинич. Т. характеризуется быстрой сменой эмоций при малой их глубине и силе, холерический — горячностью, вспыльчивос-
тью, порывистостью поступков, меланхолический — глубиной и длительностью переживаний, флегматический — медлительностью, спокойствием и слабостью внешнего выражения чувств. Что касается органич. оснований Т., то Кант усматривал их в качеств, особенностях крови.
Попытка разработать морфологи ч. теорию Т. принадлежит нем. психопатологу Э. Кречмеру, к-рый определял Т. через осн. конституционные типы телосложения. Астенич. типу конституции соответствует т. н. шизоидный (шизотимический) Т., для к-рого характерны замкнутость, уход во внутр. мир (аутизм, по Блей-леру), несоответствие реакций внешним стимулам. Пикнпч. типу отвечает циклоидный (циклотимический) Т., к-рому свойственны нормальность инстинктов, соответствие реакций стимулам, открытость, умение слиться с окружающей средой, естественность движений. Явный порок построенной Кречмером типологии Т. обусловлен переносом на норму принципов психо-патологич. классификации.
К морфологич. теориям Т. относится и конституциональная концепция У. Шелдона, популярная гл. обр. в странах англ. языка. Шелдон выделяет три осн. типа соматич. конституции («сомато-типа»): эндоморфный, мезоморфный п эктоморфный, к-рым соответствуют вис-церотонический, соматотонический и церебротоничес-кий Т. Как и Кречмер, Шелдон проводит мысль о фатальной соматич. обусловленности самых разнообразных психич. черт личности, в т. ч. таких, к-рые целиком определяются условиями воспитания и влиянием факторов динамичной социальной среды.
Гуморальные и морфологич. теории принимают в качестве первопричины поведенческих проявлений Т. такие системы организма, к-рые на самом деле не обладают и не могут обладать необходимыми для этого свойствами. Действит. системой такого рода является центр, нервная система, регулирующая динамич. особенности поведения. Теоретич. и экспериментальное обоснование этого впервые дал И. П. Павлов, выделивший три осн. свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного процессов. Согласно данным Павлова и его школы, из ряда возможных сочетаний этих свойств могут быть выделены четыре осн. комбинации в виде четырех типов высшей нервной деятельности, поведенческие проявления к-рых были поставлены Павловым в прямую связь с антич. Т.: сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы соответствует Т. сангвиника; сильный, уравновешенный, инертный — Т. флегматика; сильный, неуравновешенный — Т. холерика; слабый — Т. меланхолика. При оценке этой типологии надо иметь в виду, что она была построена применительно к высшей нервной деятельности животных и непосредственно к человеку неприложима без существ, оговорок.
Рассматривая эту концепцию, Б. М. Теплов указал, что ее науч. значение заключается не в идее четырех типов высшей нервной деятельности, а в идее осн. свойств нервной системы (не обязательно трех) как первичных и самых глубоких параметров психо-физиологич. организаций индивидуальности. Вряд ли можно строить тнпологич. классификации до того, как будут изучены природа и физиологич. содержание первичных компонентов типа нервной системы, определены их количество и принципы их организации в структуре типа. По совр. представлениям, структура этих компонентов как нейрофизиологич. измерений Т. много сложнее, чем это казалось ранее, а число их оснсвиых комбинаций — физиологич. оснований типов Т.— видимо, гораздо больше, чем это предполагалось Павловым.
Лит.: Кречмер Э., Строение тела и характер, пер. с нем., 2 изд., М.— Л., 1930; Губинштейн С. Л.,
ТЕННИС—ТЕОДИЦЕЯ
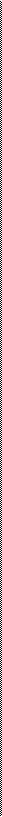 Основы общей психологии, 2 изд., М., 194(5, гл. 19; Ананьев Б. Г., Проблема формирования характера, Л., 1949; Левитов Н. Д., Вопросы психологии характера, 2 изд., М, 1956; Лейте с Н. С. Опыт психологич. характеристики темпераментов, в сб.: Типология, особенности высшей нервной деятельности человека, [т. 1], М., 1956; его же, Типы высшей нервной деятельности и Т., в кн.: Психология, под ред. А. А. Смирнова [и др.], 2 изд., М., 1962, гл. 16; К о-в а л е в А. Г., Мясищев В. Н., Психич. особенности человека, т. 1, [Л.], 1957; Мясищев В. Н., Личность и неврозы, Л.. 1960; Теплов Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М., 1961; Мерлин В. С, Очерк теории Т., М., 1964; Небылицын В. Д., Осн. свойства нервной системы человека, М., 1966; Sheldon W. Н., The varieties of temperament. A psychology of constitutional differences, N.Y.—L., [1942]; Guilford J. P., Zimmerman W. S., Fourteen dimensions of temperament, [Wash.], 1956; С a t t e 1 1 R. В., Personality and motivation structure and measurement, N.Y., [1957]; В our del L., Les temperaments psychobiologiques, P.. 1961. В. Небылицын. Москва. ТЕННИС (Tonnies), Фердинанд (26 июля 1855— 11 апр. 1936) — нем. социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии, профессор ун-та в Киле (1906—33).
Основы общей психологии, 2 изд., М., 194(5, гл. 19; Ананьев Б. Г., Проблема формирования характера, Л., 1949; Левитов Н. Д., Вопросы психологии характера, 2 изд., М, 1956; Лейте с Н. С. Опыт психологич. характеристики темпераментов, в сб.: Типология, особенности высшей нервной деятельности человека, [т. 1], М., 1956; его же, Типы высшей нервной деятельности и Т., в кн.: Психология, под ред. А. А. Смирнова [и др.], 2 изд., М., 1962, гл. 16; К о-в а л е в А. Г., Мясищев В. Н., Психич. особенности человека, т. 1, [Л.], 1957; Мясищев В. Н., Личность и неврозы, Л.. 1960; Теплов Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М., 1961; Мерлин В. С, Очерк теории Т., М., 1964; Небылицын В. Д., Осн. свойства нервной системы человека, М., 1966; Sheldon W. Н., The varieties of temperament. A psychology of constitutional differences, N.Y.—L., [1942]; Guilford J. P., Zimmerman W. S., Fourteen dimensions of temperament, [Wash.], 1956; С a t t e 1 1 R. В., Personality and motivation structure and measurement, N.Y., [1957]; В our del L., Les temperaments psychobiologiques, P.. 1961. В. Небылицын. Москва. ТЕННИС (Tonnies), Фердинанд (26 июля 1855— 11 апр. 1936) — нем. социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии, профессор ун-та в Киле (1906—33).
По Т., социология подразделяется на три дисциплины: 1) чистая, или теоретическая, социология представляет собой логич. систему понятий н идеальных типов, необходимых для описания и понимания конкретных социальных явлений; 2) прикладная социология использует эти понятия, применяя их к историч. развитию общества; 3) эмпирич. социология, илисоцпо-графия, является описат. дисциплиной, опирающейся на индуктивный метод и использующей понятия чистой социологии в качестве общих установок. Важнейшая работа Т.— «Общность и общество» («Gemeinschaft und Gesellschaft», Lpz., 1887, 8 Aufl., Lpz., 1935). Рассматривая обществ, отношения как волевые отношения, Т. подразделяет их на два типа, в зависимости от выраженного в них типа воли. С одной стороны, существует естеств. инстинктивная воля (Wesen-wille), к-рая направляет поведение человека как бы сзади. С другой стороны, существует рассудочная воля, предполагающая возможность выбора п сознательно поставленную цель действия (Kurwille). Примером первой может служить материнская любовь, примером второй — торговля. Естеств. воля порождает общность (общину), рассудочная — общество. В общности господствуют инстинкты, чувство, органпч. отношения; в обществе — расчетливый разум, абстракция, механич. отношения. По мере развития человеческого общества отношения первого типа все больше уступают место отношениям второго типа. Позже во «Введении в социологию» («Einfuhrung in die Soziologie», Stuttg., 1931) Т. усложнил эту типологию, совместив ее с дифференцированным подразделением социальных сущностей на отношения, группы и объединения и заимствованной у юриста Гирке классификацией человеческих отношений на отношения «господства» и «товарищества». Несмотря на идеализм и психологизм концепции Т. (обществ, отношения классифицируются по воплощенным в них типам воли), она содержала ряд ценных моментов. Т. одним из первых поставил задачу создания логически строгой системы социологпч. понятий. За противопоставлением общности и общества стоит проблема перехода от феодально-патриархальных отношений (и вообще отношений личной зависимости и традиционных форм культуры) к отношениям капиталистическим. Большое науч. значение имели много-числ. эмпирич. исследования Т. (о соцпалыго-эко-номич. условиях жизни гамбургских грузчиков и моряков, преступности, самоубийстве п т. д.). Хотя взгляды Т. не свободны от элементов романтизма (идеализация отношений общности), в целом он стоял на бурж.-демократич. позициях, с ориентацией на гу-манистич. традиции Просвещения. В его работах представлена сильная социально-критич. струя. Отрицательно относясь к идее революции, Т. тем не менее признавал большое науч. значение Маркса и материали-
стич. понимания истории, переписывался с Энгельсом. Т. был последоват. демократом и антифашистом, открыто выступал против расизма, называя его «совр. варварством». После установления фашистской диктатуры демонстративно ушел с поста президента Нем. социологич. об-ва, одним из основателей к-рого он был.
С оч.: Die Sitte, Fr./M., 1909; Der englisshe Staat und der deutsche Staat, В., 1917; Marx. Leben und Lehre, Jena, 1921; Kritik der offentlichen Meinung. В., 1922; Т. Hobbes Leben und Lehre, 3 Aufl., Stuttg., 1925; Soziologische Studien und Kriti-ken, Bd 1—3, Jena, 1925—29; Die Entwicklung der sozialen Frage bis zum Weltkrieg, 4 Aufl., B.— Lpz., 1926; Das Eigen-tum, W.—Lpz., 1926; Fortschritt und soziale Entwicklung. Geschichtsphilosophische Ansichten, Karsruhe, 1926; Geist der Neuzeit, Lpz., 1935.
Лит.: Кон И. С., Позитивизм в социологии, М., 1964, с. 102—06; Н е b е г 1 е R., The sociological system of F. Tonnies, в кн.: An introduction to the history of sociology, ed. H. E. Barnes, Chi., 1948; Rudolph G., F. Tonnies und der Faschismus, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humbolt Uni-versitat zu Berlin. Gesellschafts-sprachwissenschaftliche Reihe», 1965, Jg. 14, [H.] 3; Bellebaum A., Das soziologische System von F. Tonnies unter besonderer Benicksichtigung seiner soziographischen Untersuchungen, Meisenheim/Glan, 1966.
И. Яон. Ленинград. ТЕОГОНИЯ (греч. deoyovia, от дебс, — бог и yovn — происхождение) — совокупность мифов, трактующих о происхождении богов. Исключит, значение изучения др.-греч. Т. для понимания антич. философии обусловливается тем, что рационализированная переработка теогонич. представлений лежит в основе всех античных фил ос. учений о первоначале. В содержании Т. у первого ее систематизатора — Гесиода (8—7 вв. до н. э.) — отразились древнейшие представления периода матриархата: Гея — Земля как лоно всего сущего, существующая в мировом пространстве, Хаосе, и объемлемая мировым вожделением — Эросом, рождающая из себя Урана — небо, с к-рым она затем вступает в брак. Первое потомство, рожденное Геей и Ураном,— Титаны, Киклопы и Сторукие, являются отражением и обобщением страшных стихийных сил природы. Ниспровержение же Урана одним из его сыновей Кроносом, а затем ниспровержение Кроноса Зевсом свидетельствуют о прогрессирующей борьбе со стихийными силами и растущем торжестве разума и воли. Олимпийский период греч. мифологии отражает уже значит, победу человека над природой, переход к полисному строению жизни. В дальнейшем Т. постепенно рационализируется. В досократовской философии теогонич. представления понимались как аллегории тех или иных сил природы и общества. Рационализация Т. характерна для Платона («Политика», «Тимей») и, в эпоху эллинизма, особенно для неоплатонизма, предпринявшего грандиозную попытку логически переосмыслить древнюю Т. в виде диалектически развитой и строго продуманной системы категорий.
Лит.: Р h i 1 i p p s о n P., Genealogie als mythische
Form, Osloae, 1936 (Symbolae osloenses fasc. Suppl. 7); St a u-
dacherW., Die Trennung von Hiromel und Erde..., bei
Hesiod und den Orphikern, Tubingen, 1942, S. 61 —121; Welt-
schopfung., в кн.: Paulys Realencyclopfidie der classischen Al-
tertumswissenschaft. Neue Bearb., Suppl.-Bd 9, Stuttg., 1962
(c. 1433—1589, где дан обзор всех древнейших Т. и космого
нии); Ausfubrliches Lexikon der griechischen und romischen
Mythologie, hrsg., von "W. H. Roscher, V. Hildesheim, 2 Aufl.,
Lpz., 1965, S. 1469—1554. А. Лосев. Москва.
ТЕОДИЦЕЯ, «оправдание бога» (франц. theodicee, от греч. Оеос, — бог и 6ixi"| — справедливость) — общее обозначение религ.-филос. доктрин, стремящихся согласовать идею благого и разумного божеств, управления миром с наличием мирового зла, «оправдать» это управление вопреки существованию темных сторон бытия. Термин «Т.» введен Лейбницем в его трактате «Опыты Т. о благости божией, свободе человека и первопричине зла» (1710).
Всякая Т. есть «оправдание» перед лицом нек-рого обвинения, ответ на то, что Гейне назвал «проклятыми вопросами»; исторические типы Т. зависят от определяемых социальной ситуацией различных мыслит.
\lfl8
ТЕОДИЦЕЯ
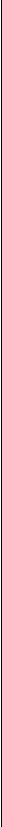 возможностей постановки таких вопросов, т. е. от различно определяемого объема божеств, ответственности за мировое бытие. Поэтому типологию Т. целесообразно рассматривать в порядке поступат. расширения и усложнения этой ответственности. Вариант минимальной ответственности божества дает политеизм, особенно в его первобытно-аннмистич. формах пли в язычестве греко-рим. типа. То, что богов много, ограничивает личную ответственность каждого из них, а их постоянные раздоры отодвигают на заднпй план мысль об их общей ответственности. Кроме того, языч. космос не «сотворен» богами в смысле присущей теизму доктрины свободного творения из ничто, но «порожден» цепью божеств, зачатий и рождений (см. Теогония) или приведен богами в порядок из состояния хаоса. Таким космосом нельзя управлять как орудием (ср. для контраста идею космоса-орудия у христ. апологета Лактанция, Div. Inst. II, 5, 37—42), а только так, как патриархальный отец управляет своим не всегда послушным, но подчиненным сыном, или как патриархальный старейшина управляет сородичами (Зевс — «отец богов и людей» не в метафорическом, а в буквально-юридич. смысле, как старейшина божеств.-человеческой сверхобщнны). Притом боги находятся внутри космоса и тем самым внутри космпч. несвободы (напр., ведич. боги Индии принуждены смотреть на любого великого аскета и тем более на Будду снизу вверх, ибо аскет и Будда добились для себя свободы, а боги — нет). К таким божествам странно было бы предъявлять претензии относительно наличия физического и морального зла в бытии, но от них вполне естественно требовать того, что требуется от добросовестного земного старейшины и судьи, т. е. правильной юрисдикции, справедливого распределения наград и наказаний. Человека первоначально возмущает не то, что преступление могло совершиться, а то, что оно осталось без возмездия; не то, что есть страдания, а то, что они постигают не тех, кого надо. Общее место архаического обыденного сознания гласит: «Погиб ли кто невинный, и где праведные были искореняемы?.. Бог не отверг непорочного, и не поддерживает р5гки злодеев» (Кн. Иова, 4,7; 8, 20). Поэтому первая и самая общая форма критики божеств, управления миром, к-рая возникает на заре цивилизации и сохраняется вплоть до самых поздних форм свободомыслия, есть вопрос: почему дурным хорошо, а хорошим дурно? Этот вопрос проходит через древнейшие египетские и шумерийскне тексты, но его же мы встречаем и в таком документе становящегося теизма, как библейская Книга Иова, п в вольнодумной лит-ре нового и новейшего времени:
возможностей постановки таких вопросов, т. е. от различно определяемого объема божеств, ответственности за мировое бытие. Поэтому типологию Т. целесообразно рассматривать в порядке поступат. расширения и усложнения этой ответственности. Вариант минимальной ответственности божества дает политеизм, особенно в его первобытно-аннмистич. формах пли в язычестве греко-рим. типа. То, что богов много, ограничивает личную ответственность каждого из них, а их постоянные раздоры отодвигают на заднпй план мысль об их общей ответственности. Кроме того, языч. космос не «сотворен» богами в смысле присущей теизму доктрины свободного творения из ничто, но «порожден» цепью божеств, зачатий и рождений (см. Теогония) или приведен богами в порядок из состояния хаоса. Таким космосом нельзя управлять как орудием (ср. для контраста идею космоса-орудия у христ. апологета Лактанция, Div. Inst. II, 5, 37—42), а только так, как патриархальный отец управляет своим не всегда послушным, но подчиненным сыном, или как патриархальный старейшина управляет сородичами (Зевс — «отец богов и людей» не в метафорическом, а в буквально-юридич. смысле, как старейшина божеств.-человеческой сверхобщнны). Притом боги находятся внутри космоса и тем самым внутри космпч. несвободы (напр., ведич. боги Индии принуждены смотреть на любого великого аскета и тем более на Будду снизу вверх, ибо аскет и Будда добились для себя свободы, а боги — нет). К таким божествам странно было бы предъявлять претензии относительно наличия физического и морального зла в бытии, но от них вполне естественно требовать того, что требуется от добросовестного земного старейшины и судьи, т. е. правильной юрисдикции, справедливого распределения наград и наказаний. Человека первоначально возмущает не то, что преступление могло совершиться, а то, что оно осталось без возмездия; не то, что есть страдания, а то, что они постигают не тех, кого надо. Общее место архаического обыденного сознания гласит: «Погиб ли кто невинный, и где праведные были искореняемы?.. Бог не отверг непорочного, и не поддерживает р5гки злодеев» (Кн. Иова, 4,7; 8, 20). Поэтому первая и самая общая форма критики божеств, управления миром, к-рая возникает на заре цивилизации и сохраняется вплоть до самых поздних форм свободомыслия, есть вопрос: почему дурным хорошо, а хорошим дурно? Этот вопрос проходит через древнейшие египетские и шумерийскне тексты, но его же мы встречаем и в таком документе становящегося теизма, как библейская Книга Иова, п в вольнодумной лит-ре нового и новейшего времени:
«Почему под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Почему везде бесчестный
Встречен почестью и славой?»
(Г. Г е й н е).
Наиболее примитивная форма Т. сводится к ответу: подожди, и ты увидишь, как в конце концов хорошему будет тем более хорошо, а дурному тем более дурно. По др.-греч. пословице, «медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют» (см. Ф. Ф. Зелинский, Древнегреч. лит-ра эпохи независимости, ч. 2, Образцы, П., 1920, с.7; ср. также рус. пословицу: «Бог правду видит, да не скоро скажет» и т. п.). Но на это можно возразить: зачем же боги так медлят с исполнением своего приговора, затягивая муки невинных и позволяя злодеям похваляться своей безнаказанностью? Это вопрос, на к-рый отвечает Плутарх в трактате «О позднем возмездии божества», приводя следующие аргументы: а) по своему милосердию боги дают грешнику время исправиться, б) по своей справедливости они карают его растянутым ожиданием кары, к-рое и само по себе есть дополнит, кара, в) по своей мудрости они выжидают времени, когда кара будет мак-
симально эффективной, г) движение времени в божественных и человеч. планах бытия не совпадает. Новый вопрос: когда же наступит самое последнее «в конце концов»? Вот добрый умер в безутешности, а злой — в безнаказанности: где же обещанное возмездие? Перед Т. возникает задача: вывести перспективу возмездия из огранич. пределов отд. земной жизни в бесконечные дали времени. Это может быть решено трояким образом. Во-первых, можно отнести возмездие не к индивиду, а ко всему его роду в целом (что естественно для времен патриархальной круговой поруки, наследств, куначества и кровной мести). В долгой череде поколений боги успевают вознаградить потомков неутешенного праведника и взыскать должное с потомков ненаказанного грешника, так что справедливость будет восстановлена. Этот ход мысли широко представлен в языч. Т. (напр., у Солона, Эсхила, в упомянутом трактате Плутарха и т. п.), но также ив Ветхом завете. Однако (не говоря уже о том случае, когда невинному страдальцу приходится умирать бездетным, как библейскому Авелю) такое решение перестает быть справедливым, как только идея личной ответственности прорывает безличные родовые связи. Этот историч. момент фиксирован в полемич. словах ветхозаветного пророка Иеремии: «В те дни не станут более говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина; но каждый будет умирать за свое беззаконие» (31, 28—29). Поэтому два др. решения апеллируют не к вечности рода, а к вечности индивида в перспективе эсхатологии. Первое из них — учение о перерождениях в своем орфич., брахманистском, буддистском и др. вариантах: «колесо бытия», известное от орфич. текстов до ламаистской иконографии, создает непреложную связь причинно-следств. характера —• связь «закона кармы» — между заслугами и винами предыдущей жизни и обстоятельствами последующего перерождения. Впрочем, поскольку «закон кармы» мыслится как анонимный закон бытия, учение о нем не относится к Т. в собств. смысле, «оправдывая» не богов, но миропорядок. Второе решение — учение о возмездии за гробом, характерное для егип. религии, для иозднего иудаизма, христианства и ислама, однако играющее важную роль и в греко-рим. язычестве, индуизме, буддизме махаяны и т. п.
С одухотворением представления о божеств, мире его ответственность существенно расширялась. Если мыслить богов по типу послесократовской (особенно нео-платонич.) греч. философии — как вполне духовные и вполне совершенные, хотя еще не внекосмич., но уже внеприродные существа,— то таких богов можно требовать к ответу уже не только за незаслуженные страдания и ненаказанные преступления, но за самую возможность страданий и преступлений. Если божеств, основа бытия, по утверждению Плутарха, «тождественна благу» (De Isid. et Osir., 53), то откуда берется зло? У языч. философов оставался выход: как настаивает тот же Плутарх, «сущностная материя, из которой возник мир, не произведена демиургом, но была предоставлена ему как вечный субстрат,... к-рый он в меру возможности уподобил себе» (De animae procr. in Tim. 5). Мироправление божеств, начала заранее ограничено столь же предвечным началом — косной материей, сопротивляющейся устрояющей силе божеств, эйдосов. Свет нуса последовательно меркнет, углубляясь во мрак мэона — материи, к-рая и ответственна за все мировое несовершенство.
Этот выход, однако, невозможен для библейского теизма с его учением о создании мира из ничто (впервые в ветхозаветной 2-й Кн. Маккавеев, 7,28) и о безусловной власти создателя над созданием. Ответственность за мировое зло нельзя переложить ни на предвечную материю, ни на др. мировое начало вроде Ан-хра-Майнью в зороастризме. Библия многократно под-
ТЕОДИЦЕЯ—ТЕОКРАТИЯ
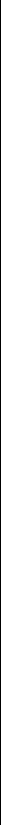 черкивает, что от бога исходит вся целокупность бытия, как она раскрывается в своих светлых и темных сторонах: «Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и творящий зло: я, Яхве, делающий это» (Ис. 45, 7). Но является ли такой бог благим, не следует ли приписать ему амбивалентности созданного им мира? Особенно остро стоит проблема Т. перед лицом морального зла: если полновластная воля бога предопределяет все человеч. действования, то бога логично обвинить не только за ненаказание виновного, но и за самую вину виновного, ибо всякая вина есть вина бога, так что последний не имеет права никого наказывать (логич. ход, уже продуманный на заре теистич. эпохи Лукианом в его диалоге «Зевс Уличаемый»). Действительно, концепция предопределения, проведенная с такой безусловной жестокостью, как это имеет место у джабаритов в исламе, у Лютера и особенно Кальвина в христианстве не оставляет места для логич. Т. Лютер перед лицом собств. учения принужден был апеллировать к алогич. парадоксу веры: «Это есть предел веры...— верить, что справедлив тот, кто по собственному произволу делает нас достойными осуждения... Если бы можно было хоть как-то понять, каким образом милосерд и справедлив бог, являющий такую гневливость н несправедливость, не было бы нужды в вере» (De servo arbitr., 18). С большим успехом можно строить Т., исходя из принципа свободы воли: бог именно тем п доказал свою благость, что сотворил свободные ангельские и человеч. личности, свобода к-рых для своей полноты должна включать возможность морального зла, в свою очередь порождающего зло физическое. Совершеннейшие создания — архангел Люцифер и человек Адам, получили в качестве высшего божьего дара способность свободно выбирать между добром и злом и выбрали зло, чем повергли себя и весь космос в состояние несовершенства, вызванного к бытию именно их избыточным совершенством. «Самовластная» (теоло-гич. термин) свобода сотворенного Я свободна даже разрушить себя самое, без чего не была бы свободой. Эта «аргументация от свободы» составляет основу теистич. Т. от апокрифич. Кн. Еноха (1 в.) н посланий апостола Павла до религ. философии 20 в. (особ, у Бердяева). Менее специфичен для теизма др. тип аргументации, также исходящий из идеи необходимости зла для самоосуществления добра: эстетико-космологпч. Т., утверждающая, что все частные недостатки космоса, запланированные художнпч. расчетом бога, усиливают совершенство целого. Это уже не столько Т., сколько космодицея («оправдание мира»), встречающаяся уже у Плотина (Ennead. Ill 2, 7 и 15—18), но также и у Августина, к-рый, впрочем, соединяет ее со ссылкой на человеч. греховность, т. е. с «аргументацией от свободы»: «Я вижу, что все в своем роде красиво, хотя по причине грехов наших многое представляется нам противным; ведь я не вин-су тела п членов какого бы то ни было животного, где я не нашел бы меры, и числа, и порядка, относящихся к гармонии целого» («De Genesi contra Manichaeos», 1, 16, 26). Этот тип Т. доведен до предельной систематичности у Лейбница, к-рый исходит из идеи, что наилучший из всех возможных миров есть мир, вмещающий максимальное разнообразие степеней совершенства своих существ: бог, по благости своей желающий наилучшего мира, не желает греха и страдания, но допускает их постольку, поскольку без них не может осуществиться желаемое разнообразие. Оценка Лейбницем нашего мира как наилучшего была зло высмеяна Вольтером в романе «Кандид, или Оптимизм» (1759), а растворение мук и вины индивида в сладкозвучной полифонии мирового целого отброшена Достоевским в «Братьях Карамазовых»: Иван Карамазов подчеркивает, что он отвергает именно космодицею («... мира-то божьего...
черкивает, что от бога исходит вся целокупность бытия, как она раскрывается в своих светлых и темных сторонах: «Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и творящий зло: я, Яхве, делающий это» (Ис. 45, 7). Но является ли такой бог благим, не следует ли приписать ему амбивалентности созданного им мира? Особенно остро стоит проблема Т. перед лицом морального зла: если полновластная воля бога предопределяет все человеч. действования, то бога логично обвинить не только за ненаказание виновного, но и за самую вину виновного, ибо всякая вина есть вина бога, так что последний не имеет права никого наказывать (логич. ход, уже продуманный на заре теистич. эпохи Лукианом в его диалоге «Зевс Уличаемый»). Действительно, концепция предопределения, проведенная с такой безусловной жестокостью, как это имеет место у джабаритов в исламе, у Лютера и особенно Кальвина в христианстве не оставляет места для логич. Т. Лютер перед лицом собств. учения принужден был апеллировать к алогич. парадоксу веры: «Это есть предел веры...— верить, что справедлив тот, кто по собственному произволу делает нас достойными осуждения... Если бы можно было хоть как-то понять, каким образом милосерд и справедлив бог, являющий такую гневливость н несправедливость, не было бы нужды в вере» (De servo arbitr., 18). С большим успехом можно строить Т., исходя из принципа свободы воли: бог именно тем п доказал свою благость, что сотворил свободные ангельские и человеч. личности, свобода к-рых для своей полноты должна включать возможность морального зла, в свою очередь порождающего зло физическое. Совершеннейшие создания — архангел Люцифер и человек Адам, получили в качестве высшего божьего дара способность свободно выбирать между добром и злом и выбрали зло, чем повергли себя и весь космос в состояние несовершенства, вызванного к бытию именно их избыточным совершенством. «Самовластная» (теоло-гич. термин) свобода сотворенного Я свободна даже разрушить себя самое, без чего не была бы свободой. Эта «аргументация от свободы» составляет основу теистич. Т. от апокрифич. Кн. Еноха (1 в.) н посланий апостола Павла до религ. философии 20 в. (особ, у Бердяева). Менее специфичен для теизма др. тип аргументации, также исходящий из идеи необходимости зла для самоосуществления добра: эстетико-космологпч. Т., утверждающая, что все частные недостатки космоса, запланированные художнпч. расчетом бога, усиливают совершенство целого. Это уже не столько Т., сколько космодицея («оправдание мира»), встречающаяся уже у Плотина (Ennead. Ill 2, 7 и 15—18), но также и у Августина, к-рый, впрочем, соединяет ее со ссылкой на человеч. греховность, т. е. с «аргументацией от свободы»: «Я вижу, что все в своем роде красиво, хотя по причине грехов наших многое представляется нам противным; ведь я не вин-су тела п членов какого бы то ни было животного, где я не нашел бы меры, и числа, и порядка, относящихся к гармонии целого» («De Genesi contra Manichaeos», 1, 16, 26). Этот тип Т. доведен до предельной систематичности у Лейбница, к-рый исходит из идеи, что наилучший из всех возможных миров есть мир, вмещающий максимальное разнообразие степеней совершенства своих существ: бог, по благости своей желающий наилучшего мира, не желает греха и страдания, но допускает их постольку, поскольку без них не может осуществиться желаемое разнообразие. Оценка Лейбницем нашего мира как наилучшего была зло высмеяна Вольтером в романе «Кандид, или Оптимизм» (1759), а растворение мук и вины индивида в сладкозвучной полифонии мирового целого отброшена Достоевским в «Братьях Карамазовых»: Иван Карамазов подчеркивает, что он отвергает именно космодицею («... мира-то божьего...
не могу согласиться принять»,— см. Собр. соч., т. 9,
1958, с. 295). С. Аверинцев. Москва.
ТЕОКРАТИЯ (греч. ФеокростСа, букв.— боговластие, от ■&еос, — бог и xpixoc; — власть) — принцип, согласно к-рому непосредств. носитель власти над народом и страной есть бог, осуществляющий эту власть через своих служителей, пророков, богочеловечес-кпх посредников или институции (типа церкви). Термин «Т.» впервые введен историком Иосифом Флавием (ок. 37— ок. 95) для характеристики древнеиудейского строя.
Корни идеи Т. лежат в первобытных представлениях о вожде племени как священной персоне, причастной миру духов и воплощающей в себе магич. мощь, к-рую он изливает на общину. Сверхчеловеческий характер личности вождя особенно выявляется тогда, когда он оказывается жертвой: по законам мифологич. мышления жертва тождественна с принимателем жертвы, приносимой за общину, и вождь в мгновение своего ритуального убиения или самоубийства окончательно сливается с высшим миром, чтобы уже навсегда пребыть пастырем своей общины. Егпп. миф об Осирисе позволяет ясно проследить слияние трех образов: 1) мудрого вождя, к-рый в то же время есть «культурный герой» (мифологич. фигура, очень важная для генезиса идеи Т.), 2) закалаемого тотемистич. зверя и 3) страждущего и умирающего бога природных круговоротов.
С возникновением цивилизации выдвигаются три фигуры, притязающие быть воплощением идеи Т.: царь, жрец и пророк. На царя переносятся магич. функции вождя. Для патриархального сознания человеч. коллектив воспроизводит универсум, а страна тождественна с ойкуменом (ср. кит. выражение «Поднебесная», обозначающее ойкумену и одновременно Китай): поэтому и царь страны находится в ипостасных отношениях к богу универсума. Эта ипостасност могла пониматься как безусловное тождество: царь сам по себе есть бог, не имеющий над собой никаких высших инстанций (ср. кн. Даниила, 6, 8). Но подобные претензии могли быть легко опровергнуты указанием на бессилие царя перед лицом космнч. порядка (ср. Коран, сура 2, ст. 260). Принципу Т. соответствовал др. вариант: царь есть сын и наместник бога, пользующийся его славой н послушный его приказам. Такое осмысление деспотии не только укрепляло власть как таковую, но и создавало основу для критики каждого отд. носителя власти, ибо выдвигало нек-рый идеал, к-рым можно было поверять действительность: если царь — наместник сверхземных инстанций, то его власть — не безответственное хозяйничанье, но служение, в к-ром придется дать ответ. Кит. император считался «сыном неба», но в книге бесед Конфуция «Луньюй» рассказывается о жалкой гибели государей, нарушавших заветы неба. Принцип Т., освящая мирскую власть, одновременно исключает ее самодовление: если, как говорится в послании апостола Павла к римлянам, «нет власти, которая не от Бога» (13, 1), то естественно заключить, что власть, к-рая явным образом не «от Бога»,— вообще не власть. Но кто вправе напоминать об этом царю, уполномоченному свыше? Официально санкционирован в роли служителя божества жрец, к-рый может притязать на роль воспитателя, приставленного божеством к своему дитяте-царю, п даже ставить под сомнение богосыновство последнего, делая из принципа Т. вывод в свою пользу. Однако у царя и жреца есть общее свойство: они суть официальные носители теократич. достоинства, опирающиеся на сумму установлений, а не на свои личные свойства: их сан формален. Против них обоих выступает пророк — фигура «харизматическая», т. е. обязанная достоинством только личной богодухновен-ности, аскезе, проявленной в образе жизни, и не в по-
ТЕОКРАТИЯ—ТЕОЛОГИЯ
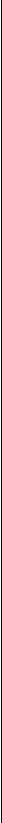 следнюю очередь — отваге, с к-рой он рискует собств. жизнью, выступая во имя бога против официальных инстанций. С теократич. т. зр., как она выражена в Ветхом завете, пророк есть полномочный представитель бога, сравнительно с к-рым две др. теократич. инстанции вторичны: пророк Моисей есть источник власти для жреца Аарона и вождя Иисуса Навина и др. Царь, идущий против пророков, проклят (участь Саула). Ветхозаветная оценка института власти, исходящая из принципаТ., двойственна. Так, царь есть избранник бога (ср. Второзаконие 17,15), но он обязан быть слугой бога и руководствоваться законом, причем с самого начала предполагается сомнительным, будет ли он это делать (там же, 17, 16—20). И потому царь есть одновременно и соперник бога, ущемляющий его право на непосредств. водительство народом, так что ему в конечном счете приходится спорить за власть не со жрецом и даже не с пророком, но именно с богом (ср.1 Сам. 8, 6—7). Правда, идея монархии имела тенденцию к абсорбированию идеи харизматич. пророчества (тип царя-пророка Давида, священника вне инстптуцион. жречества, «по чину Мельхиседекову» (Пс. 109, 6), при этом для царя было тем важнее дополнить свое царское достоинство иророческим,чем в большей мере он вступал в конфликт со жречеством: таков случай фараона Эхнатона, противопоставившего традициям жреч. установлений свое личное бого-сыновство.
следнюю очередь — отваге, с к-рой он рискует собств. жизнью, выступая во имя бога против официальных инстанций. С теократич. т. зр., как она выражена в Ветхом завете, пророк есть полномочный представитель бога, сравнительно с к-рым две др. теократич. инстанции вторичны: пророк Моисей есть источник власти для жреца Аарона и вождя Иисуса Навина и др. Царь, идущий против пророков, проклят (участь Саула). Ветхозаветная оценка института власти, исходящая из принципаТ., двойственна. Так, царь есть избранник бога (ср. Второзаконие 17,15), но он обязан быть слугой бога и руководствоваться законом, причем с самого начала предполагается сомнительным, будет ли он это делать (там же, 17, 16—20). И потому царь есть одновременно и соперник бога, ущемляющий его право на непосредств. водительство народом, так что ему в конечном счете приходится спорить за власть не со жрецом и даже не с пророком, но именно с богом (ср.1 Сам. 8, 6—7). Правда, идея монархии имела тенденцию к абсорбированию идеи харизматич. пророчества (тип царя-пророка Давида, священника вне инстптуцион. жречества, «по чину Мельхиседекову» (Пс. 109, 6), при этом для царя было тем важнее дополнить свое царское достоинство иророческим,чем в большей мере он вступал в конфликт со жречеством: таков случай фараона Эхнатона, противопоставившего традициям жреч. установлений свое личное бого-сыновство.
Антич. мир стремился оттеснить тенденции Т. на периферию обществ, жизни п обезвредить их. Греч, полис в целом и его гос. формы считались богохрани-мыми (в Афинах, напр., был культ Афины Демократии), но существование особой категории людей, имеющих право действовать непосредственно от имени богов, отрицалось. Поэтому в антич. мире идея Т. выступает как антиполисная сила: ее подхватывают вожди рабских восстаний (Евн, Аристоник), а на др. полюсе обществ, жизни — претенденты на личную власть (Александр Македонский, Цезарь, Август). Но официальная псевдотеократия цезарей оставалась пустой фикцией: культ императора сводился к демонстрации лояльности. Более подлинную связь с древнейшими мифологич. идеями выявляли воспринятые нар. памятью образы казненных рабских царей, замученных бунтарей и пророков, в позорной казни к-рых снова, в соответствии с законами мифа, совпадали унижение и слава, бессилие и божественность, участь жертвы и участь бога. В образе Иисуса Христа, «царя иудейского», чей царский сан проявился в том, что он предал себя в спасит. жертву за других, уподобляясь закалаемому вождю первобытных времен, эти черты доведены до предельной четкости. Новозаветное христианство явилось трансформацией и снятием принципа Т. Христос описывается как носитель всей абс. полноты теократич. полномочий, как тот, кому «дана власть на небе и на земле» (Евангелие от Матфея 33, 18), царь, первосвященник и пророк в одном лице. Но он въезжает в Иерусалим не на боевом коне, но на мирном осле, и вместо устроения мессианского владычества над народами предает себя на крайнее унижение и казнь: его теократич. сан остается тайным и духовным, реализуясь на плоскости политич. факта в обращенном, негативном виде.
Христианское и мусульманское средневековье восстанавливает политич. аспект принципа Т. Особенно цельный характер идея «священной державы» носит в исламе, уже основатель к-рого был не распятым страдальцем, а удачливым политич. и военным вождем. Границы халифата совпадают с границами «истинной» веры и «правильного» человеческого общежития (характерно полное тождество богословия и права в исламе). В шиизме и особенно в радикальных шиитских ересях (исмаилитов и др.) образ боговодимого пра-
вителя людей (имама) приобретает ранг онтология, категории. К этой же группе идей относится и представление о махди (букв.— ведомый, т. е. богом). В византийско-рус. православии главной теократич. фигурой оказывается царь. Напротив, на средневековом Западе идея Т.— предмет борьбы между папой и герм, императором. Папа считал себя не только главой вселенской церкви, но и государем всего христ. человечества, вассалом к-рого является любой земной государь (см. В. Герье, Зап. монашество и папство, М., 1913, с. 163 — 64). Но с такими же притязаниями с 9 в. выступали и императоры; с 1075 начинается спор между папой и императором о праве инвеституры (утверждения епископа в сане). Драматич. борьба между этими двумя теократич. инстанциями, обещавшими мир и несшими войну, привела к кризису идеи Т. Она заново обновляется в мировоззрении пуритан, видевших в своей борьбе священную войну избранников бога против земных тиранов. Дальнейшая секуляризация бурж. мировоззрения оттесняет принцип Т. на периферию обществ, мысли.
В позднебурж. эпоху обращение к идее Т. (В. С. Соловьев, Маритен и др. представители неотомизма и т. п.) обычно связано с критикой потребительского общества и бурж. эгоизма, с утопич. мечтой об «архитектурно» устроенном человеческом социуме, подобном ср.-век. собору, внутри целокупности к-рого каждый индивид обрел бы уготованное место и служил бы целому.
Лит.: Е n g n е 1 1 I., Studies in divine kingship in the ancient Near East, Uppsala, 1943; Habicht С h., Gott-menschentum und griechische Stadte, Munch., 1956; T a e-?ei F., Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herr-scherkultes, Bd 1—2, Stuttg., 1957—60. С. Аееринцев. Москва.
ТЕОЛОГИЯ (греч. Qsohoyia, букв.— богословие, от u-eog — бог и V/yog — слово, учение) — учение о боге, построенное в логич. формах идеалистич. спекуляции на основе текстов, принимаемых как свидетельство бога о самом себе, или откровение. Т. предполагает концепцию личного абс. бога, сообщающего человеку знание о себе через собств. «слово», а потому возможна только в рамках теизма. В наиболее строгом смысле слова о Т. можно говорить применительно к вероучениям трех чисто теистич. религий— иудаизма, христианства и ислама; что касается таких религий, как индуизм и буддизм, то Т. как форма мышления возможна внутри них, лишь поскольку они содержат элементы теизма. Мистич. учения нетеистич. религ. систем (конфуцианство, даосизм, дзэн-буддизм и т. п.) не могут быть причислены к феномену Т.
История термина. Термин «Т.» впервые вошел в оборот в антич. Греции, где он прилагался к систематизированному изложению мифов и особенно генеалогий языч. богов (по типу «Теогонии» Гесиода). Подобное изложение чаще всего осуществлялось в поэтич. форме; так, Платон говорит о людях, разрабатывающих Т. «в эпосе или в трагедии» (Rep. II, 379 А). Такая «Т.» не только не имела характера обязат. вероучения, но могла быть и вообще иррелигиозной: Цицерон называет «теологами» вольнодумных последователей Эегемера, учивших, что боги суть всего лишь обожествленные люди (Cic. nat. deor III, 55). Более определенная связь с религ. верой имеет место гам, где слово «Т.» прилагается к мистич. преданию тайных религ. кружкоЕ-тиасов (напр., на языке позднеантич. религ. философов слово «Теолог», употребляемое как имя собственное, есть обозначение легендарного поэта древности Орфея, основавшего сообщество орфипов и передавшего им свои мистич. гимны). Нередко «теологами» называли жрецов, в обязанность к-рых входило рассказывать посетителям храма местные мифы. Однако во всех случаях термин «Т.» относился к сфере мифологии, а не филос. спекуляции. Аристотель, опираясь на ту критику, к-рой Платон подверг «Т.» народных и поэтич. мифов, впервые перенес обозначение «Т.» на спекулятивную «первую философию», «высшую созерцательную науку» (ср. Arist. Met., 1026 А., 15—20; там же, 1064 В 1 и др.). Для Аристотеля Т. есть прежде всего учение о неподвижном перводвигателе, источнике и цели мирового бытия, и как раз аристотелевское словоупотребление оказало решающее воздействие на дальнейшую историю слова. Однако еше патристика понимала Т. в неспекулятивном смысле. Для Тертуллиана (Adv. nat II, 1, 2) и Августина (De civ. Dei, VI, 5—10; VIII, 1.5) «Т.» — языч. лжеучения о богах, для Ареопагитик и порожденной ими тра-
 2015-05-06
2015-05-06 1519
1519








