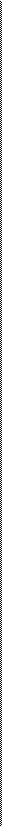 ности субъекта как средства пстинного воссоздания объекта. Истинный объект может быть только «дан» незнающему; все же, являющееся продуктом его творчества, его субъективной познават. деятельности,— лишь мнение, не истинное, не соответствующее бытию. Это положение столь характерно для античной мысли, что присутствует не только у досократпков, не умевших еще различить ощущение и размышление. Оно есть даже у Демокрита и Платона, к-рые прекрасно понимали роль рационального рассуждения для достижения истинного знания о бытии, но вместе с тем, по-видимому, смотрели на мыслит, деятельность не столько как на способ воспроизведения бытия, сколько как на нек-рое необходимое условие, позволяющее схватить, узреть образ, адекватный самому объекту.
ности субъекта как средства пстинного воссоздания объекта. Истинный объект может быть только «дан» незнающему; все же, являющееся продуктом его творчества, его субъективной познават. деятельности,— лишь мнение, не истинное, не соответствующее бытию. Это положение столь характерно для античной мысли, что присутствует не только у досократпков, не умевших еще различить ощущение и размышление. Оно есть даже у Демокрита и Платона, к-рые прекрасно понимали роль рационального рассуждения для достижения истинного знания о бытии, но вместе с тем, по-видимому, смотрели на мыслит, деятельность не столько как на способ воспроизведения бытия, сколько как на нек-рое необходимое условие, позволяющее схватить, узреть образ, адекватный самому объекту.
В античной философии нет того принципиального логич. противопоставления субъекта п объекта, к-рое было выработано в европ. философии нового времени. Даже Платон недостаточно четко выражает различие мира идей и мира физпч. тел (вследствие чего царство идей нередко выступает у него просто как мир фнзич. тел особого рода), а наиболее субъективистски и релятивистски настроенные античные философы не являются субъективистами в смысле новой европ. философии. Все это объясняется тем, что проблематика Т. п. существует для античных мыслителей лишь в связи с задачей построения картины космоса.
|
|
|
Т. п. в философии 17—18 вв. В европ. философии 17 —18 вв., развивавшейся в тесной связи с возникшим естествознанием, проблематика Т. п. занимает центр, место, будучи исходной при построении филос. систем (а иногда и совпадая с самой системой). С особой остротой ставится задача отыскания абсолютно достоверного знания, к-рое было бы исходным пунктом и вместе с тем предельным основанием всей остальной совокупности знаний, позволяя дать оценку этих знаний по степени их истинности.
Выбор разных путей решения этой задачи обусловливает деление философов на рационалистов и эмпириков. При этом ориентация на механико-матем. естествознание того времени, попытка применить методы науки к решению филос. вопросов диктует рационалистам понимание «врожденных», независимых от опыта истин разума (из к-рых якобы и может быть выведено все остальное знание) по аналогии с геомет-рич. аксиомами, а эмпириков толкает к уподоблению данных чувственности (именно в них эмпирики усматривают элементарные единицы знания) своеобразным атомам, взаимодействие к-рых порождает все остальные познават. образования. Т. о., взаимоотношение чувственности и разума, эмпирического и рационального исследуется в Т. п. не только как проблема происхождения знания или, тем более, простого предшествования во времени одного другому, а прежде всего как проблема логич. обоснования системы знания. Др. характерная черта философии 17—18 вв.—• обсуждение проблемы связи субъекта и материальной субстанции, «я» и внешнего мира (н производных от них проблем «внешнего» и «внутр.» опыта, первичных и вторичных качеств и др.). Это проблема возникла как следствие осуществленного Декартом выделения субъекта, субъективного в качестве чего-то резко отличного от материальной субстанции и логически противоположного ей. Декарт выделяет «я», самосознание субъекта как такое начало, в существовании к-рого нельзя сомневаться, ибо сам акт сомнения уже предполагает «я» («я мыслю, следовательно, существую»). Существование мыслящего «я» — интуитивная, непосредственно данная рациональная истина, ясная и отчетливая, обосновывающая все остальное знание. Декарт, с одной стороны, отождествляет «я» с внутренним, непосредств. переживанием субъектом самого
|
|
|
себя, а с др. стороны, рассматривает его как выражение некоей рациональной вещи, мыслящей субстанции, к-рая сливается у него с идеальным (идеи выступают как своеобразные модусы существования духовной субстанции). Поскольку Декарт принципиально не различает еще мышления, сознания и псцхич. жизни вообще, теоретико-познават. проблема отношения познающего субъекта к познаваемому предмету, пси-хпч. проблема отношения психического к физиологическому и онтологич. проблема отношения идеальной и материальной субстанций сливаются у него и у последующих рационалистов в одну проблему. Место рациональной истины о существовании «я» в филос. теории мыслится Декартом по аналогии с местом аксиом в матем. системе, а признаки, приписываемые мыслящей субстанции, подбираются как отрицания признаков, к-рыми обладает материальная субстанция: если материальная субстанция есть вещь протяженная, то субстанция мыслящая — вещь непротяженная, если материя обладает прежде всего количеств, характеристиками, то дух — качественными, и т. д. Отсюда и резкий дуализм, логич. взаимоисключение двух субстанций. Это во многом объясняется состоянием науки того времени, к-рая тогда начинала осваивать только область механич. явлений.
Приписав идеальной и материальной субстанциям, субъекту и объекту логически несовместимые признаки, последекартовский рационализм, естественно, был не в состоянии решить проблемы познания. Если у самого Декарта еще нет полного осознания тех логич. трудностей, к к-рым ведет принятие его характеристик протяженной и мыслящей субстанций (он считает возможным непосредств. познание вещей внешнего мира, говорит даже о воздействии вещей на органы чувств н т. д.), то его последователи, с одной стороны, окказионалисты, а с другой — Мальбранш, полностью их осознают. Т. к. духовная и материальная субстанции не имеют между собой ничего общего, они и не могут действовать друг на друга. Значит, материальная субстанция, телесный мир — это не причина наших представлений о нем, а лишь повод для непосредств. воздействия на душу со стороны бога, к-рый действует на мыслящую субстанцию всякий раз, когда мы познаем к.-л. предмет. Так намечается возможность перехода от дуалистич. философии Декарта к философии субъективного идеализма.
Материалпстич. эмпиризм, выступая против превращения идеалистами-рационалистами мышления в самостоят, субстанцию, в «рациональную вещь», остро критикуя декартовское учение о «врожденных идеях», вместе с тем не мог не признать самого факта существования «я» как феномена психич. жизни, непосредственно переживаемого познающим субъектом. Поскольку материалисты не могли принять той интерпретации этого факта, к-рая давалась в рационализме, перед ними встала задача объяснения происхождения и функционирования т. н. внутреннего опыта, неразрешимая в рамках метафнзич. формы материализма того времени.
|
|
|
Слабости метафизич. материализма были использованы представителями субъективного идеализма, к-рый как четко оформленная школа появляется именно в 18 в. и спекулирует прежде всего на проблематике Т. п. Исходя из невозможности средствами метафизич. философии показать пропзводность внутр. опыта от внешнего и из несомненности, интуитивной достоверности самопереживания, рефлексии, Беркли провозглашает тезис о зависимости внешнего опыта от внутреннего; внешний мир — лишь совокупность моих идей, ощущений. Юм продолжает ту же линию, превращая все (в т. ч. и «я», предполагаемый носитель внутреннего опыта) в совокупность чувственных впечатлений.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 219
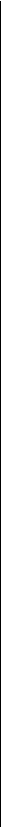 У рационалистов противоположность субъективного и объективного знания выступает в форме наличия эмпирич. знания, как смутного, неясного, «имагина-тивного», и знания рационального, четкого, исходящего из интуитивно ясных истин. Объективный характер рацион, знания обеспечен тем, что между мыслящей субстанцией, с ее врожденными идеями, и материальной субстанцией — объектом познания — существует «предустановленная гармония». Но откуда же в таком случае берется смутное, субъективное знание, знание вторичных качеств в отличие от объективного знания, знания первичных качеств! Отвечая на этот вопрос, Декарт писал, что вторичные качества выражают не свойства самих вещей, а способ воздействия тел на субъекта, вследствие чего ощущения (в отличие от мышления) являются не отражением реальности, а скорее знаками внешних тел. Последекартовскпй рационализм, осознавший уязвимость такого ответа, не мог столь прямолинейно отвечать на этот вопрос и фактически был не в состоянии разрешить эту трудность. Материалистич. эмпиризм истолковывает знание вторичных качеств как результат взаимодействия субъекта и познаваемых материальных тел.
У рационалистов противоположность субъективного и объективного знания выступает в форме наличия эмпирич. знания, как смутного, неясного, «имагина-тивного», и знания рационального, четкого, исходящего из интуитивно ясных истин. Объективный характер рацион, знания обеспечен тем, что между мыслящей субстанцией, с ее врожденными идеями, и материальной субстанцией — объектом познания — существует «предустановленная гармония». Но откуда же в таком случае берется смутное, субъективное знание, знание вторичных качеств в отличие от объективного знания, знания первичных качеств! Отвечая на этот вопрос, Декарт писал, что вторичные качества выражают не свойства самих вещей, а способ воздействия тел на субъекта, вследствие чего ощущения (в отличие от мышления) являются не отражением реальности, а скорее знаками внешних тел. Последекартовскпй рационализм, осознавший уязвимость такого ответа, не мог столь прямолинейно отвечать на этот вопрос и фактически был не в состоянии разрешить эту трудность. Материалистич. эмпиризм истолковывает знание вторичных качеств как результат взаимодействия субъекта и познаваемых материальных тел.
|
|
|
С внешней стороны учение философии 17—18 вв. о первичных и вторичных качествах выступало как возрождение античной теории Демокрита — Эпикура (а аргументы в пользу субъективного характера показаний органов чувств заимствовались нередко у софистов и античных скептиков). Однако по существу это была новая концепция. Если для философов античности и первичные, и вторичные качества были образами реально существующих предметов (принадлежавших к области бытия или небытия), то для философов 17—18 вв. образами действительности, объективно истинно отражающими реальность, являются только знания первичных качеств. Вместе с тем с т. зр. эмпириков-материалистов, исходивших из того, что чувств, опыт — единств, источник познания, как первичные, так п вторичные качества непосредственно даны познающему субъекту в чувств, опыте. Но в таком случае возникает вопрос: если и одни, и другие «качества» одинаково даны в чувств. опыте, то почему первичные качества выражают истинный образ объекта, а вторичные представляют лишь взаимодействие субъекта и объекта? Ведь чувств, опыт неотделим от взаимодействия человека и познаваемого предмета. Слабости теории «первичных» и «вторичных» качеств были использованы субъективным идеализмом 18 в., указавшим (вполне справедливо) на невозможность четкого разграничения субъективных и объективных качеств с позиций метафи-зич. эмпиризма.
Т. о., как в античности, так и в философии 17 — 18 вв. исследование проблем знания и познания непосредственно связано с филос. анализом природы реальности, с выявлением первичных оснований действительности, причем в античной философии Т. п. не отчленяется четко от онтологически-космологич. системы, а в европ. философии 17—18 вв. проблематика Т. п. получает относит, самостоятельность. Но и в этот период познание мыслится как неразрывно связанное с бытием. В зависимости от понимания природы реальности Т. п. выступает либо в связи с онто-логич. системой (где реальность мыслится как объективное, существующее независимо от индивидуального сознания бытие — идеалистич. рационализм, ме-тафпзич. материализм), либо в связи с системой пспхо-логич. метафизики (реальность отождествляется с эмпирически «данными» познанию чувств, впечатлениями — субъективный идеализм Беркли, Юма). У Декарта теоретико-познават. проблема отношения знания и реальности неотделима от онтологич. проблемы отношения идеальной и материальной субстанций.
Метафизич. материалисты исследуют проблемы Т. п. в рамках понимания человека как биологич. индивида, целиком зависимого от Природы и наделенного ею всеми необходимыми для познания способностями. В философии Юма гносеологич. вопросы сводятся к анализу психологич. проблем взаимодействия чувств, впечатлений, представлений, памяти, к исследованию ассоциаций, привычек и т. д.
Т. п. в нем. классич. философии. Лишь в системе Канта впервые предпринимается попытка построить такую Т. п., к-рая была бы совершенно независима от всяких допущений о реальности, как онтологических, так и психологических. В связи с реализацией этой задачи Кант постулирует зависимость реальности, субстанциональности от самого познания: объект и субъект познания С5гществуют не как предметные сущности, а лишь в качестве формы протекания познават. деятельности. Предметность, функция объективации — форма деятельности субъекта, и вне познаваемых им предметов не существует самого субъекта. С другой стороны, объект познается и существует в качестве объекта лишь в формах деятельности субъекта, считает Кант. Вещь в себе, т. е. реальность, существующая вне всякого отношения к познающему субъекту, дается последнему лишь в формах объектов, являющихся по существу продуктами собств. творчества субъекта. В этой связи Кант резко критикует метод метафизич. онтологизма, исходившего из понятия о чистом реальном бытии, взятом вне отношения к субъекту и формам его познават. деятельности, и пытавшегося из этого понятия путем его аналитич. расчленения вывести осн. характеристики действительности.
Субъект понимается Кантом не как «мыслящая вещь» Декарта и других метафизич. рационалистов, а скорее как самодеятельность, как внутр. активность, обнаруживающая себя лишь в своем функционировании — оформлении ощущений посредством категориального синтеза. За идеалистич. тезисом Канта о творении субъектом мира объектов лежит глубокая диалектич. идея активности субъекта: субъект не просто воспринимает «данный» ему мир ощущений или готовых рассудочных понятий, а творчески перерабатывает «данность», строит из нее новое по содержанию знание. Сами категории тоже существуют лишь постольку, поскольку они функционируют, являются средствами оформления чувственно-данных ощущений пли наглядных представлений. Вне этого функционирования категории пусты, п никакое их аналитич. расчленение не может дать принципиально нового знания. Заслуга Канта в развитии Т. п. состоит в снятии внешнего противопоставления субъекта и объекта, характерного для философии 17—18 вв. В связи с этим проблематика Т. и. получает в философии Канта новый облик. Вопрос о том, как познающему субъекту удается найти путь к внешнему объекту, для «критпч.» философии является ложно поставленным. Интерес Канта направлен на выяснение условий плодотворного использования средств познания (форм чистой интуиции, категорий рассудка, идей чистого разума), т. е. тех условий, к-рые позволяют провести границу между подлинным науч. знанием и лжемудростью (к ней относится, в частности, как считает Кант, рационалистпч. метафизика). Критику «догма-тич.» метода метафизич. рационализма Кант использует для обоснования своего субъективного гносеоло-гизма: настоящая, «критич.» философия якобы вообще не может быть онтологией, учением о бытии, а способна лишь исследовать возможности и границы познания. Справедливо подчеркивая активность познания, Кант не отделяет материализм от той созерцательной, метафизич. формы, в какой он выступал в философии 18 в., и считает, что вместе с метафизич.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
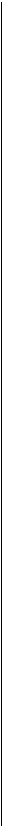 противопоставлением субъекта и объекта он опроверг всякий материализм.
противопоставлением субъекта и объекта он опроверг всякий материализм.
Подлинным субъектом познания, согласно Канту, является не индивидуальное, эмпирич. «я», а нек-рый «субъект вообще», Трансцендентальный Субъект, лежащий в глубочайшей основе всякого индивидуального «я», но вместе с тем и выходящий за его пределы. «Субъект вообще» становится известным индивидуальному субъекту не в своем функционировании, а лишь в его результате (функционирование «субъекта вообще» совершается бессознательно, как бы за спиной сознания)* Вследствие этого мир предметов, природа выступают для каждого индивидуального, эмпирич. субъекта как данная ему, существующая независимо от сознания действительность, тогда как на самом деле природа есть конструкция «сознания вообще» (мир предметов природы, по Канту, «эмпирически реален» и «трансцендентально идеален»). Единство Трансцендентального Субъекта («трансцендентальное единство апперцепции») не имеет ничего общего с единством субъекта, понимаемого в качестве простой, неделимой субстанции (рационализм 17 —18 вв.). Во-первых, подчеркивает Кант, абс. единство апперцепции не существует вне Трансцендентального синтеза многообразия, т. е. вне оформления Трансцендентальным Субъектом ощущений в мир объективных предметов. Во-вторых, Трансцендентальный Субъект выступает для эмпирич. сознания лишь в форме продуктов своей деятельности — мира явлений. Категория же субстанции, вещи в строгом смысле, приложима только к миру явлений, а не к его потусторонним производителям: вещи в себе и Трансцендентальному Субъекту. Поэтому «субъект вообще» не есть субстанция, а скорее некая сверхчувств, самодеятельность, продуктивность. Категория субстанции, считает Кант, непрнло-жима даже к эмпирич. самосознанию, т. к. эмпирическое «я» дается во «внутр.» чувстве, а категория субстанции прилагается только к предметам внешнего чувства.
Установка Канта на создание «чистой Т. п.», независимой от онтологич. предпосылок, была реализована им лишь частично: кантовское положение о существовании вещи в себе не только носит онтологич. характер, но и по способу своего введения в систему весьма напоминает критикуемую Кантом рациона-листич. метафизику. У Канта есть и элементы понимания субъекта в качестве трансцендентальной вещи: он иногда отождествляет Трансцендентальный Субъект с вещью в себе. Доведение до конца «чистого гно-сеологизма» принадлежит уже неокантианцам, к-рым во имя борьбы с остатками онтологии (отождествляемой ими с «метафизикой») пришлось выкинуть из кан-товской системы не только вещь в себе, но и Трансцендентального Субъекта (поэтому, напр., в Т. п. марбургской школы не существует субъекта и объекта, а есть лишь субъективное и объективное). Неокантианство было одной из немногих в истории философии теоретико-познават. систем, носивших «чисто гносеологич.» характер.
Между тем развитие нем. классич. философии сразу после Канта выдвинуло необходимость преодоления разрыва гносеологической и онтологич. проблематики. Наиболее полно в домарксистской философии эта задача решалась Гегелем. Гегель полностью снимает те элементы отчуждения субъекта и объекта, к-рые еще имеются в философии Канта, показывает ди-алектич. взаимозависимость этих категорий, их переход друг в друга, глубоко раскрывает несостоятельность метафизич. противопоставления объективной реальности (вещи в себе у Канта) и объекта, эмпирического и рационального знания, «внешнего» и «внутр.» чувства, теоретического и практич. разума. По существу субъект и объект тождественны друг другу, т. к.
в основе действительности лежит саморазвитие Абс. Духа (в строгом смысле слова, считает Гегель, Абс. Дух совпадает с действительностью), к-рый является Абс. Субъектом, имеющим в качестве объекта самого себя. Если действительность, реальность понимать не как внешнюю познанию вещь, а как процесс саморазвития, самораскрытия, совпадающий с самопознанием,— а в основе познания, по Гегелю, лежит самопознание,— то теряются основания для противопоставления Т. п. и онтологии, то и другое абсолютно совпадает. Гегелевская «Наука Логика» — не только Т. п., но и одновременно онтология, причем она не есть ни Т. п., ни онтология в смысле философии эпохи Просвещения, а выражает собой на объективноиде-алпстнч. основе совпадение диалектики, логики и Т. п.
Если в античной философии Т. п. и онтология еще не отчленены друг от друга, а в философии 17 —18 вв. связаны между собой как относительно самостоят, части единых филос. систем, то в гегелевской концепции они сознательно мыслятся как полностью совпадающие друг с другом. Др. особенность обсуждения проблем Т. п. в рамках гегелевской философии состоит в том, что познание впервые анализируется в контексте псторич. развития форм практической и познават. деятельности человеч. общества. Развивая кантовскую мысль о понимании субъекта как самодеятельности, Гегель осмысляет последнюю уже не в качестве статич. акта, совершающегося вне времени и пространства, а как саморазвитие субъекта. Категории — не просто готовый набор априорных форм, а ступеньки саморазвития Абс. Духа и вместе с тем ступеньки познания внешнего мира и самого себя обществ, человеком. Отсюда гегелевский тезис о единстве субъекта и субстанции. Подчеркивая, что действительность есть субъект, Гегель не только выражает идеалистич. тезис о духовном характере реальности, но и утверждает действпт. характер самого субъекта, разрушает метафизич. стену между трансцендентальным миром и миром явлений, между «ноуменальным» характером духовного субъекта и «феноменальными» формами проявления его деятельности. В кантовскои различении трансцендентального и индивидуального субъекта выражена лишь слабая догадка о роли общества как субъекта познания. Гегель вполне ясно представляет определяющую роль выработанной обществом культуры для формирования индивидуального сознания, производность индивида, осуществляющего акт познания, от обществ, субъекта. Обществ, дух, считает Гегель, есть субстанция индивида, его «неорганическая природа», выступающая для каждого отдельного индивида во внешне данных формах культуры, в формах обработанного человечеством природного материала. Овладевая этими формами, отдельный индивид приобщается к обществ, субъекту, делает себя его частью и постольку сам выступает как познающий субъект.
Т. п. в совр. бурж. философии. Развитие зап. философии во второй пол. 19 и первой пол. 20 вв. подтверждает положение о том, что Т. п. как филос. дисциплина невозможна вне рассмотрения познания в его отнесенности к той или иной сфере действительности: либо психической (психологизм в Т. п.), либо вне-психической (понимание Т. п. в единстве с онтологич. проблематикой). Поэтому неокантианство, пытавшееся последовательно провести идею «чистого гносеоло-гизма» (и отождествлявшее философию с Т. п.), не смогло долго удержать влияние, подвергаясь критике за субъективизм и психологизм со стороны фплософов-онтологистов (Э. Гуссерль) и за формализм и априоризм со стороны психологистов-эмпириков (ранний этап логич. позитивизма — Венский кружок 20-х гг.). Закладывая основы феноменологии в связи с критикой психологизма в Т. п., Гуссерль подчеркивает
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
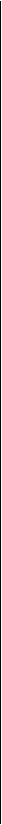 неразрывное единство Т. п. и онтологии. Разрабатываемая поздним Гуссерлем трансцендентальная феноменология рассматривается им одновременно как трансцендентальная Т. п., метафизика («первая философия») и фундаментальная онтология.
неразрывное единство Т. п. и онтологии. Разрабатываемая поздним Гуссерлем трансцендентальная феноменология рассматривается им одновременно как трансцендентальная Т. п., метафизика («первая философия») и фундаментальная онтология.
Анализ проблем Т. п. в зап. философии последнего столетия характеризуется след. особенностями.
1) Впервые в истории Т. п. появляется сочетание
идеалистич. эмпиризма (к-рый ранее всегда выступал
в Т. п. в форме психологизма) с онтологизмом. Это
делается возможным в результате того, что фундамен
тальное для эмпиризма понятие элементарных данных
чувственности истолковывается как относящееся не
к субъективным психич. переживаниям субъекта, а
к нек-рым объективно, т. е. независимо от индивиду
ального сознания существующим чувств, сущностям
(«нейтральные» элементы мира Э. Маха, «чувственные
данные» англ. неореалистов, «сенсибплии» Б. Рассела
и т. д.). Т. п. такого типа сочетают в себе черты как
субъективного, так и объективного идеализма.
Установление связей субъективистского эмпиризма с онтологией было одним из аспектов широко развернувшейся в бурж. философии начала 20 в. кампании критики «декартовского наследия» в Т. п. — резкого дуализма субъекта и объекта. При этом устранение дуализма нередко мыслилось как полное отрицание правомерности фундаментального деления действительности на физическое и психическое, бытие и сознание, субъект и объект (подобное деление признается имеющим чисто условное значение). Напр., система махизма и эмпириокритицизма — это не только Т. п., но и своеобразная идеалистич. онтология. Англо-амер. неореализм подчеркивает, что логически исходными для Т. п. являются метафизика, онтология, логика (при этом единство Т. п. и онтологии в разнообразных «реалистич.» системах не имеет ничего общего с тождеством Т. п. и теории действительности в нем. клас-сич. философии: «реалисты» 20 в. понимают действительность как некую статич. структуру и к тому же обычно толкуют ее не монистически, а плюралистически). Причудливый характер постулируемых «реалистами» сущностей, сочетающих объективность с наличием чувств, характеристик, как и общая для всякого эмпиризма трудность строгого формулирования критериев выделения исходных данных познания, обусловили тот факт, что дискуссия о т. н. «чувственных данных» — о их отношении к ощущениям, восприятиям, к акту познания, к реальным физич. вещам и т. д. — была в центре внимания неореализма и кри-тич. реализма и продолжает вестись и ныне, уже в рамках аналитич. философии.
2) Др. особенность совр. зап. философии состоит
в появлении таких направлений, к-рые отрицают вся
кий смысл за Т. п., как и за всей классич. филосо
фией. С точки зрения логич. позитивизма, идеалом
осмысленности является науч. знание; все предложе
ния науки можно разделить либо на синтетические
(высказывания фактуальных, эмпирич. наук), либо на
аналитические (истины логики, математики); классич.
филос. проблемы не имеют смысла, ибо предполагае
мые этими проблемами возможные ответы не могут
быть отнесены ни к эмпирически-синтетическим, ни
к аналитич. высказываниям. Это относится и к Т. п.,
проблемы к-рой (отношение субъекта к объекту, при
рода реальности и др.) носят, по мнению логпч. пози
тивистов, характер типичных псевдопроблем (см.,
напр., A. J. Ayer, Language, truth and logic, L.— N. Y.,
1946, p. 48—49). Задача философа заключается не
в построении тех или иных содержат, теорий о к.-л.
сфере реальности (в т. ч. и о познании), а в анализе
значения высказываний — прежде всего высказыва
ний науки — ст. зр. определенных критериев осмыс
ленности (принцип верификации и т. д.).
В новейшем варианте аналитич. философии, философии лингвистич. анализа, возникновение проблем Т. п. толкуется как результат непонимания структуры и значения слов обыденного языка. Значение слов естеств. языка «знать» и «познавать» якобы таково, что можно говорить не о знании вообще, а лишь о разных видах знания, к-рые по сути дела не имеют между собой ничего общего. Правильное понимание смысла слова «знать» (как и слов «сознание», «реально», «ощущать» и др.) снимает все филос. вопросы относительно познания, считают лингвистич. аналитики. Поэтому общей проблемы познания не существует (Дж. Остин, Ф. Вайсман, М. Макдональд). Лингвистич. аналитики пространно обсуждают проблемы Т. п. (статус «чувственно-данного», проблемы очевидности, достоверности, опыта, реальности, смысл интенциональности) только для того, чтобы показать, что эти проблемы возникают в результате употребления обычных слов в необычных контекстах.
Особенность совр. аналитич. философии состоит в том, что, выступая по форме в качестве отрицания Т. п., как и всякой содержательной филос. теории, и усматривая свою программу лишь в чисто формальном анализе значений языковых выражений, эта философия по сути дела продолжает оставаться Т. п. особого вида; гносеологии, утверждения содержатся уже в самой формулировке программы аналитич. деятельности и при этом как раз не соответствуют критериям осмысленности, формулируемым самими аналитиками. К таким утверждениям относятся принцип эмпирич. верификации, тезис о дихотомии всех осмысленных высказываний на синтетические и аналитические, утверждение о возможности редукции тео-ретич. высказываний к эмпирич. констатациям, постулирование сначала феноменалистского, а затем физикалистского языка в качестве базисного и т. д. Понимание представителями философии лингвистич. анализа обыденного языка как чего-то абсолютного и неизменного, от века данного (и в связи с этим трудности со сколько-нибудь точным определением самого понятия «обыденный язык»), их концепция отношения значения и употребления, не говоря уже о конкретных анализах значений филос. терминов,— все это тоже воплощает онредел. гносеологии, установки. Характерно, что эти установки обнаружили свою несостоятельность в ходе развития самих аналитич. направлений.
Экзистенциализм, в противоположность неопозитивизму, критикует Т. п. (вместе со всей классич. филос. «метафизикой») не за отход от тех правил, к-рые приняты для формулирования вопросов в науке или в обыденном языке, а за' близость к этим последним. Как здравый смысл, так и наука (и связанная с ней технология), и классич. филос. метафизика (частью к-рой является Т. п.) выражают неистинное, неаутентичное бытие человека. Логич. познание, к-рое ставит перед собой объект собств. размышления, в принципе неспособно постичь подлинную реальность, ибо она открывается лишь через интимную связь личности с бытием в необычных условиях, считают экзистенциалисты. Поэтому классич. проблематика Т. п. — как и всей традиц. философии — обесценивается, лишается подлинно филос. смысла. Используя сформулированный Э. Гуссерлем феноменологии, метод для анализа сознания, экзистенциализм в сущности не анализирует знание как аспект сознания и потому не исследует проблем Т. п. в традиц. смысле слова. Классич. термины Т. п. («истина», «реальность», «субъект», «объект») используются в экзистенциализме не в гносеологич. смысле.
Т. п. диалектич. материализма. Марксистская Т. п., основы к-рой разработаны К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, исходит из последовательного филос.
 2015-05-06
2015-05-06 509
509








