 Дело не ограничивалось подобными курьезами. Убедившись в том, что произведения великих мастеров «недостаточно эффектны» и не имеют шумного успеха у публики, виртуозы стали составлять свой репертуар из собственных сочинений, чтобы максимально выгодно показать свои технические достижения. Так родилась салонно-виртуозная литература, пышно оформленная, насыщенная разнообразными техническими диковинками, но примитивная в художественном отношении.
Дело не ограничивалось подобными курьезами. Убедившись в том, что произведения великих мастеров «недостаточно эффектны» и не имеют шумного успеха у публики, виртуозы стали составлять свой репертуар из собственных сочинений, чтобы максимально выгодно показать свои технические достижения. Так родилась салонно-виртуозная литература, пышно оформленная, насыщенная разнообразными техническими диковинками, но примитивная в художественном отношении.
«Для чего» определяет не только «что». «Для чего» обусловливает и «как». Это «как» в структуре различных исполнительских методов не одинаково. Для последователей французской пианистической школы первой половины XIX века ♦как» означает ошеломляюще виртуозно, для приверженцев анатомо-физиологического направления в пианизме (Деппе, Кларка, Брейтгаупта, Штейнгаузена и др.) - свободно и с удобством, для выдающихся представителей русского музыкального искусства XIX века (Глинки, Балакирева, Мусоргского, Рубинштейна) - правдиво и глубоко.
|
|
|
Идеал многих отечественных мастеров XX века также предполагает проникновение интерпретатора в сущность исполняемого произведения, донесение до воспринимающей аудитории богатства его содержания, возможно более полное раскрытие внутреннего образного строя искусства. Передача на сцене чувств и мыслей автора, его мечтаний и радостей является главной задачей спектакля, подчеркивал Станиславский, поэтому плохо, когда актер любит «себя в искусстве», а не «искусство в себе». Эта концепция совершенно несовместима с эгоцентризмом, отсебятиной и субъективистским произволом.
Сменяя друг друга в истории художеств, различные исполнительские методы и идеалы неодинаково преломляли соотношение объективного и субъективного в художественно-интерпретационном процессе. Иногда концепция совершенного произведения исполнительского искусства заключала в себе осознание их гармонического единения, но чаще строилась на абсолютизации одного из этих моментов за счет другого. Так, те же парижские виртуозы меняли местами части произведе-
ний Моцарта, Бетховена и Вебера, переносили из одной октавы в другую отдельные музыкальные фразы, «украшали» текст бравурными пассажами и каденциями. Чудовищным искажениям подвергались также симфонические и оперные произведения.
Своеобразной контрмерой по отношению к исполнительскому субъективизму было введение метрономических обозначений, обязательных каденций и т. п., призванных «оградить» композиторов от необузданной фантазии интерпретаторов. Создатели музыкальных произведений порой даже чрезмерно сурово реагировали на проявление исполнительской свободы: отрицательное отношение некоторых из них (в частности, Стравинского) к творческой инициативе интерпретаторов слишком хорошо известно.
|
|
|
Идеалу ведущих мастеров исполнительского творчества чужды как абсолютизация объективного начала исполнения, так и раздувание роли субъективного фактора. Это не означает, что объективные и субъективные моменты осмысливаются как совершенно равноправные подсистемы исполнительского процесса и находятся в состоянии идеального равновесия. Их гармоническое единение не лишено естественных противоречий. Они неразрывны, взаимосвязаны и взаимовлияют. Но исполнительское творчество все же вторично, а его самостоятельность лишь относительна; поэтому здесь находит закономерное отражение ведущая, определяющая роль объективных факторов исполнительского процесса по отношению к его субъективному началу. Конкретная мера этих отношений реализуется в современной исполнительской практике каждый раз индивидуально, однако, все же в пределах указанной здесь закономерности.
Каждый исполнительский метод по-своему решает и проблему раскрытия образного содержания произведения в современном освещении. Наряду с многообразием существующих оттенков приходится сталкиваться с тем, что Станиславский называл неправильным пониманием «вечности, современности и злободневности». «Современное, - писал он, - может стать вечным, если оно несет в себе большие вопросы, глубокие идеи», тогда как «узко-злободневное никогда не станет
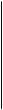 478 Ягтет ическое и художественное рязвпт1ге _общегТра
478 Ягтет ическое и художественное рязвпт1ге _общегТра
вечным». Неодобрительно отзываясь о неоправданно вольном обращении с текстом произведений классической драматургии, Станиславский справедливо замечал: «когда к старому, монолитному, классическому произведению насильственно прививают злободневность или другую чуждую пьесе цель, то она становится диким мясом на прекрасном теле и уродует его часто до неузнаваемости» [4].
Это не означает, что в искусстве неправомерно создание транскрипций, обработок и переложений. Необходимо различать произведение, которое возникает в результате переработки классической пьесы, и ее сценическое воплощение. В одном случае видоизменяются характеры уже известных действующих лиц, вводятся дополнительные сюжетные линии и пр., то есть фактически создается новая пьеса. Во втором случае весь смысл творческой работы состоит в глубоком сценическом раскрытии художественных образов данного драматургического произведения и в современном их осмыслении. Чтобы проникнуть в сущность исполняемого произведения и интерпретировать его в соответствии с потребностями современной эпохи, исполнитель должен хорошо знать жизнь. ♦Предназначение себя к карьере артиста, - говорил Станиславский, - это, прежде всего, раскрытие своего сердца для самого широкого восприятия жизни <...> Нельзя оторвать человека от жизни и думать, что из него может выработаться когда-нибудь истинный актер» (цит. по кн.: [5]). Замечательный итальянский пианист Ф. Бузони, обращаясь к молодежи, отмечал: в чьей душе жизнь не оставила следа, тот не овладеет языком искусства.
Не удивительно, что французские виртуозы были нередко идейно убогими и малоразвитыми. По убеждению их фортепианных педагогов, авторов многочисленных «Школ», «Энциклопедий» и «Метод», беглость пальцев следует приобретать независимо от художественных задач. Многочасовые упражнения за инструментом, да еще, пожалуй, с помощью механических аппаратов, предназначенных для развития беглости, вроде «хиропласта» Жана-Бернара Ложье, «руковода» Фредерика Калькбреннера или «дактилиона» Анри Герца, - единственно возможный путь для достижения понятого таким
|
|
|
Лекция XV
 образом технического мастерства. Бездумная работа за инструментом, которая являлась воплощением характерной для того времени педагогической установки «поменьше мудри побольше зубри», не способствовала накоплению необходимого жизненного опыта исполнителей и развитию их кругозора. Только логика жизни в ее наиболее существенных проявлениях, как считал Станиславский, служит в конечном счете критерием правдивости сценического поведения актера, поэтому он неустанно призывал активно смотреть и видеть сложную правду жизни.
образом технического мастерства. Бездумная работа за инструментом, которая являлась воплощением характерной для того времени педагогической установки «поменьше мудри побольше зубри», не способствовала накоплению необходимого жизненного опыта исполнителей и развитию их кругозора. Только логика жизни в ее наиболее существенных проявлениях, как считал Станиславский, служит в конечном счете критерием правдивости сценического поведения актера, поэтому он неустанно призывал активно смотреть и видеть сложную правду жизни.
Среди вопросов, которые имеют важное практическое ана-чение, следует выделить проблему исполнительского стиля -существенного проявления системной организованности исполнительского искусства. Исполнительский стиль есть совокупность особенностей, отличающих одни исполнительские явления от других.
Неповторимая индивидуальность исполнителя, его подлинная самобытность - едва ли не самое ценное качество в искусстве художественной интерпретации. Отношение к фортепиано как к инструменту, обладающему безграничными возможностями для овладения высотами человеческого духа, строгость пропорций и совершенство, мудрость и глубина, поразительное умение охватить произведение целиком при общей ясности исполнительского замысла, многоплановость звуковых линий и оркестральность мышления - вот качества, характеризующие стиль С. Рихтера и проявляющиеся в его исполнительском творчестве в целом и в каждой отдельной интерпретации бессмертных творений Бетховена, Шуберта, Шумана и Прокофьева.
В исполнительском стиле выражаются особенности творческой индивидуальности интерпретатора, его мироощущение и восприятие жизни. Стилистическое своеобразие исполнителя прямо связано с его тезаурусом: недаром крупнейшие художники-педагоги всегда придавали большое значение развитию личности, обогащению духовного мира артиста. Каждый исполнитель обладает неповторимым опытом прошлого и настоящего, и его индивидуальность проявляется в отношении к исполнительским традициям и к новым веяниям в
|
|
|
и художественное развити е^обш^г^ декция XV
сфере исполнительской культуры. Лишь такому, обладающему могучей индивидуальностью пианисту, как Ф. Бузони, оказалось по плечу создание традиций в интерпретации музыки Баха. Террасообразная динамика, ритмическая строгость, благородство, цельность и чистота пришли на смену господствовавшей в конце XIX века исполнительской манере, с присущей ей чувствительностью, легковесностью, бесконечными ускорениями и замедлениями, неоправданным динамическим ♦ набуханием» фразы и другими атрибутами салонного музицирования.
В формировании исполнительского стиля важную роль играет специфика самого объекта художественной деятельности. Исполнителю необходимо глубокое понимание индивидуальных стилистических черт продукта первичного творчества. Обособление исполнительского стиля от стиля самого автора художественного произведения в ряде случаев оказывается весьма относительным.
Исключительное значение имеет и внутренняя ориентация на воспринимающую аудиторию. Потребность донести до слушателя и зрителя свой творческий замысел неизбежно приводит к активному поиску специальных средств, с помощью которых исполнитель стремится убедить аудиторию и жизненной достоверности волнующих его образов и художг ственных идей, увлечь всем строем и тонусом исполнительс кого высказывания. Вот почему исполнительский стиль можно охарактеризовать как способ выражения образного освоения жизни и продукта первичного творчества, способ убеждать г увлекать зрителей и слушателей.
Наряду с индивидуальным исполнительским стилем, можно говорить и о стилистической общности на уровне исполни тельской школы, художественного направления и определен пого исторического периода. Особое место принадлежит так же понятию национального исполнительского стиля. «Еел исполнитель или композитор значителен как художник, - а; метил исследователь русского исполнительского сти.ч М. Смирнов, - он должен возвыситься до способности перед чи национального духа» [6]. В характеристике русской фс: тепианной исполнительской школы обычно отмечаются
| -1ЫК11 пианизмом |
| "' |
чая, легатная игра, ведущая свое начат „ прежде всего от русского распева (адтож^нн^ Глинки), декламационное, речитативное интГ«ПИани щее от Мусоргского (вспомним мысль СосъТНИР°Ванне' рояле надо не только петь, но и говори.ь^Г'0"' „ость и звукоподражание (родоначальниками которого в сии стали Балакирев, Мусоргский н Римский-Корс^в) иск индивидуализированных форм интонирования щих к утонченности, полетности,.разорванности- фактТ го рисунка (что нашло наивысшее воплощение у Скрябина также «ударная» игра в особом русском ее вариант* (Мусор-гскии - Прокофьев - Шостакович - Щедрин).
Справедливо считается, что национальная и:, ярко
выражалась в исполнительском искусстве А. Руоипштейна, игре которого были присущи титанизм драматических подъемов, следующих друг за другом мощными волнами, частые контрастные взаимопереходы мужественной активности и сокровенного лиризма. Важнейшие черты русского национального духа нетрудно обнаружить в исполнительском облике Рахманинова и Скрябина. По своему они преломились в пианизме С. С. Прокофьева, К. Н. Игумнова, В. В. Соф|кжицкого, М. В. Юдиной, Л. Н. Оборина, В. В. Крайнева, М. В. Плетнева и др.
ЛИТЕРАТУРА
1. Софроницкий В. В. Долг художника // Пианисты рг.ггкялыпя-
ют. - М., 1979. - С. 59-60.
2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., И'1 I
С. 237.
3. Зингер Е. М. Из истории фортепианного искусства Франции. -
М., 1976.-С. 4, 33.
4. Станиславский К. С. Работа актера над собой: Собр...
- М., 1954. - Т. 2. - С. 343, 344.
5. Беседы К. С. Станиславского. - М., 1947. С. Ш4.
6. Смирнов М. Русская фортепианная музыка: черты своеобразия.
- М., 1983. - С. 329.
16 Зака! \? 299
| XVI |
482
Лекция
3. Эстетическое и художественное воспитание
Внимание к вопросам эстетического и художественного воспитания в истории эстетической мысли огромно.
Уже у пифагорейцев имелась развитая система взглядов о воздействии музыки на душу человека. Платон развивал учение об искусстве, формирующем моральные установки и внутреннюю гармонию граждан идеального государства. Об очищающем значении трагедии и способности художественного творчества сделать людей умнее, добрее, счастливее писал Аристотель. Гуманисты эпохи Возрождения ценили искусство за то, что оно возвышает человека и оказывает влияние на развитие его познавательных способностей. Художественные идеалы классицизма ориентировали живописца, поэта и драматурга на создание таких произведений, которые были бы направлены на формирование изысканного вкуса, ясного и упорядоченного мышления. Английские, французские и немецкие просветители считали, что искусство должно волновать и трогать человека, заставлять возненавидеть зло и полюбить добро. Шиллер ввел в научный обиход термин «эстетическое воспитание», размышлял о путях преодоления противоречий между чувственной и разумной природой человека и пришел к выводу о том, что если удастся восстановить внутреннюю гармонию людей, общество равенства, братства и счастья сложится само по себе. Представители утопического социализма (Фурье во Франции и Моррис в Англии) также интересовались ролью искусства в формировании всесторонне и гармонически развитой личности. Английский писатель и теоретик искусства Джон Рескин (1819-1900) дал развернутую критику антиэстетических последствий индустриализации общественной жизни, а французский позитивист Жан Мари Гюйо (1854-1888) расценивал искусство прежде всего как средство передачи социальных чувств. Революционно-демократическая эстетика в России характеризовала искусство как зеркало социальной жизни, а значит и как важное средство социализации личности. Достоевский считал, что красота спа-
Лекция XVI
 сет мир, а Бердяев уделял особое внимание взаимосвязи красоты и творчества, красоты и свободы.
сет мир, а Бердяев уделял особое внимание взаимосвязи красоты и творчества, красоты и свободы.
В целом же в истории эстетической мысли можно выделить три тенденции. Первая связана с движением от отождествления понятий «эстетическое воспитание» и «воспитание средствами искусства» к их дифференциации, вторая - со все более полным осмыслением эстетического развития как необходимой стороны формирования целостной личности и третья - со все более глубоким осознанием влияния эстетического развития на процесс формирования важнейших составляющих внутреннего мира человека (чувств, интеллекта, нравственного начала, эвристических способностей и т. д.).
Наша эстетическая теория усвоила это, однако трактовка сущности эстетического воспитания в последние десятилетия складывалась не без противоречий. Главной причиной здесь послужило то, что само воспитание характеризовалось как процесс целенаправленного воздействия воспитателя на вос-питуемого с целью выработки у этого последнего необходимых обществу качеств (взглядов, убеждений, навыков поведения и т. п.).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что здесь мы имеем дело с ярко выраженной моделью авторитарной, нормативно-дисциплинарной педагогики. Личность в ней понимается как «объект» и как «средство», то есть как нечто пассивное, чем можно и должно манипулировать, и как способ достижения целей воспитателя, социальной группы или общества в целом.
Кроме того, воспитание здесь трактуется крайне узко. Оно вычленяется из общих процессов формирования, становления, социализации и развития человека и противопоставляется им. Воспитание, якобы, - это субъективный, целенаправленный процесс, который нельзя смешивать с объективным воздействием общественных отношений, уклада, среды и т. д. Воспитание понимается исключительно как «надстройка» над объективными процессами жизни и сводится к так называемой воспитательной работе, к ее организации, методам и формам.
I
484
Эстетическое и художественное^азвитие общества
Лекция XVI
 Протестуя против усеченного понимания воспитания, один остроумный француз как-то заметил: «Нас воспитывает решительно все - начиная от книг и кончая нашими любовницами». Если даже оставить в стороне «наших любовниц» как не строго научный подход к делу, приходится все-таки согласиться, что француз прав. Человек формируется под влиянием всего многообразия обстоятельств. Разумеется, в процессе воспитания существует и целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемого. Было бы весьма глупо это отвергать. Однако процесс воспитания к этому не сводится. И даже более того: не в этом его суть.
Протестуя против усеченного понимания воспитания, один остроумный француз как-то заметил: «Нас воспитывает решительно все - начиная от книг и кончая нашими любовницами». Если даже оставить в стороне «наших любовниц» как не строго научный подход к делу, приходится все-таки согласиться, что француз прав. Человек формируется под влиянием всего многообразия обстоятельств. Разумеется, в процессе воспитания существует и целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемого. Было бы весьма глупо это отвергать. Однако процесс воспитания к этому не сводится. И даже более того: не в этом его суть.
Подлинную природу феномена воспитания помогает раскрыть социально-деятельностная концепция.
Напомню, что понятие деятельности связано с процессом целесообразного изменения и преобразования действительности. Деятельность есть преобразование обстоятельств, в котором одновременно изменяется и сам человек. Именно поэтому преобразование мира всегда означает и творение человеком самого себя (еще Гегель увидел в труде самопроизводство человека). Следовательно, социально-деятельностная сущность воспитания состоит в общественном воспроизводстве личности, в ее деятельностном саморазвитии. Это дает основание определить воспитание как деятельностное саморазвитие личности, осуществляемое в процессе общественного воспроизводства человека и реализуемое механизмами культуры.
Что здесь существенно?
Первое. Если раньше объективное влияние социальной среды и воспитание сущностно «разводились», то теперь они сущностно совпадают. При этом совпадают именно сущностно, поскольку абсолютного тождества между процессами развития, социализации и воспитания нет и быть не может. Развитие - это направленное, закономерное и необратимое изменение. Деятельностное саморазвитие - лишь определенная его грань. Социализация же есть приобщение человека к общественным ценностям, впитывание необходимого социального опыта, формирование личности по определенным социальным меркам. Поэтому процесс деятельностного само-
развития выходит за рамки социализации и включает в себя также и встречную тенденцию - индивидуализацию, стремление к утверждению уникальной самобытности, к духовному самоопределению.
Второе. В старом подходе человек трактовался как «объект» и «средство», в новом - как «субъект» и «цель». Перенос этого акцента дает принципиально иную картину: не вас изменяют, а вы изменяетесь под влиянием обстоятельств (в число таких обстоятельств, как уже говорилось, может входить и процесс субъективного, целенаправленного воздействия). В идеале это изменение должно прежде всего осуществляться в интересах самого субъекта, ради него самого. Относиться к человеку как к цели, и никогда только как к средству - если этот принцип нарушается, процесс воспитания утрачивает свою гуманистическую направленность.
Третье. Воспитание имеет социокультурную деятель-ностную основу и реализуется механизмами культуры. Фак-; тически воспитание есть процесс формирования базовых ос-\ нов культуры, ибо невоспитанный человек - это человек некультурный.
Последнее обстоятельство вынуждает меня сделать небольшое отступление.
На протяжении ряда предыдущих занятий нам уже приходилось пользоваться такими понятиями, как «культура», «цивилизация» и «ментальность», хотя их точный смысл в нашем лекционном курсе оставался невыясненным. Думаю, однако, что вам и без того было ясно, о чем идет речь, ибо термины эти общеупотребительны и их смысл приблизительно понятен всем. Вместе с тем приходится учитывать, что эти понятия употребляются и в других философских курсах и часто приобретают в них разные оттенки. Вот почему я считаю необходимым более точно определить те значения, в которых понятия «культура», «цивилизация» и «ментальность» используются мной.
Термин «культура» имеет латинское происхождение и означает «возделывание», «воспитание», «образование». Первоначально это понятие было связано с процессом обработки земли, уходом за нею с целью сделать ее максимально при-

|
| 486 |
Эстетическое и художественное развитие общества
годной для удовлетворения человеческих потребностей («остаточные явления» такого использования сохранились в понятии «сельскохозяйственные культуры»). Позднее этот термин стал употребляться в переносном смысле - как облагораживание человека, совершенствование его телесных и духовных свойств, развитие его склонностей и способностей. Еще позже его стали употреблять по отношению к продуктам деятельности, результатам творчества человека. Последнее особенно важно, поскольку понятие культуры тесно связано с понятиями творчества и ценности. Ведь именно человек является субъектом культуры, именно он творит культурные ценности, хранит и распространяет их.
 Обычно приходится слышать, что культура бывает материальной и духовной. Причем материальная культура охватывает сферу практической деятельности и ее результаты (жилища, предметы повседневного обихода, орудия труда, средства производства, средства транспорта и связи и т. п.), а духовная культура - сферу сознания (познание, науку, религию, нравственность, право, образование, воспитание, просвещение, философию, искусство). Однако, культура - это не «сумма» всех перечисленных явлений, а лишь особый «слой» в каждом из них. Культура - это система внебиологически выработанных механизмов (приемов, норм, методов, способов, процедур), программирующих все многообразие жизнедеятельности человека, это внегенетическая память человечества, вне-природный способ сохранения накопленного человеческого опыта и его передача каждому входящему в мир индивиду и каждому поколению людей.
Обычно приходится слышать, что культура бывает материальной и духовной. Причем материальная культура охватывает сферу практической деятельности и ее результаты (жилища, предметы повседневного обихода, орудия труда, средства производства, средства транспорта и связи и т. п.), а духовная культура - сферу сознания (познание, науку, религию, нравственность, право, образование, воспитание, просвещение, философию, искусство). Однако, культура - это не «сумма» всех перечисленных явлений, а лишь особый «слой» в каждом из них. Культура - это система внебиологически выработанных механизмов (приемов, норм, методов, способов, процедур), программирующих все многообразие жизнедеятельности человека, это внегенетическая память человечества, вне-природный способ сохранения накопленного человеческого опыта и его передача каждому входящему в мир индивиду и каждому поколению людей.
Будучи специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности, культура весьма многолика. Она присуща индивиду (культура личности), социальной группе (культура крестьянства), обществу в целом (культура отечественная), отдельным этническим и национальным общностям (культура русская). Она проявляется на различных этапах развития человечества (культура Античности) и в конкретных сферах жизни (культура труда, культура производства, культура политическая, а также нравственная, эстетическая, художественная и т. п.).
Лекция XVI
487
 Что же касается понятия цивилизации, то оно весьма многозначно. Л. Морган, например, употреблял его как синоним культуры, как особую ступень развития человечества, следующую за варварством. Философы-просветители утверждали что цивилизация - это общество, основанное на началах разума и справедливости. О. Шпенглер называл цивилизацией заключительную стадию развития любой культуры. Цивилизация, по Шпенглеру, характеризуется высокими достижениями в области индустрии и техники и одновременно - деградацией искусства, образованием мегаполисов (огромным скоплением людей в городах), превращением народов в безликие массы. Цивилизация является признаком упадка и противостоит целостности и органичности культуры. Еще одно значение термина «цивилизация» - планетарное сообщество разумных существ (например, землян) с их разнообразными конкретно-историческими ценностями. В этом смысле к цивилизации относится и глубочайшая древность, весь первобытно-общинный, дорабовладельческий строй.
Что же касается понятия цивилизации, то оно весьма многозначно. Л. Морган, например, употреблял его как синоним культуры, как особую ступень развития человечества, следующую за варварством. Философы-просветители утверждали что цивилизация - это общество, основанное на началах разума и справедливости. О. Шпенглер называл цивилизацией заключительную стадию развития любой культуры. Цивилизация, по Шпенглеру, характеризуется высокими достижениями в области индустрии и техники и одновременно - деградацией искусства, образованием мегаполисов (огромным скоплением людей в городах), превращением народов в безликие массы. Цивилизация является признаком упадка и противостоит целостности и органичности культуры. Еще одно значение термина «цивилизация» - планетарное сообщество разумных существ (например, землян) с их разнообразными конкретно-историческими ценностями. В этом смысле к цивилизации относится и глубочайшая древность, весь первобытно-общинный, дорабовладельческий строй.
Попутно, как и обещал, замечу, что мне ближе всего такое использование термина «цивилизация», которое отражает развитие общества со стороны материально-технического прогресса и, в противовес понятию культуры, в качестве основного репрезентанта имеет удобство, комфорт. Цивилизация противоречива, она сопровождается рядом издержек (утратой цельности личности, ущербом, наносимым природе, засорением окружающей среды и т. п.).
Ментальность (или менталитет) - это устойчивая настроенность внутреннего мира людей, сплачивающая их в социальные и исторические общности. Это совокупность установок и предрасположенности индивидов к определенному типу мышления и действия. Вот почему ментальность можно, с одной" стороны, рассматривать как результат культуры и традиций, а с другой - как глубинный источник развития культуры.
Теперь можно обратиться к понятию «эстетическое воспитание». Его специфической целью является формирование эстетически развитой личности. Эстетическое воспитание, взятое в контексте избранной нами концепции, есть деятельнос-тное саморазвитие личности, осуществляемое в процессе
488
Эстетическое и художественное развитие общества
Лекция XVI
 | |||
 |

|
общественного эстетического воспроизводства человека и реализуемое механизмами эстетической культуры.
Активная поборница социально-деятельностного подхода в решении проблем эстетического воспитания Л. С. Сысоева пришла к выводу о том, что целевой доминантой ^ эстетического развития личности является красота [1]. С этим утверждением можно вполне согласиться. Речь не идет, конечно, о той красоте, которую вы унаследовали от папы с мамой. Имеется в виду созидаемая красота, которая появляется в процессе саморазвития и становится неотъемлемой чертой человека как прекрасной индивидуальности.
Когда говорят об эстетически развитой личности, обычно имеют в виду такое человеческое «я», которое обладает достаточно высоким для данного конкретно-исторического периода уровнем эстетической культуры. Этот уровень характеризует меру усвоения субъектом эстетических ценностей, которыми располагает общество, и степень его активности по приумножению и распространению этих ценностей или способов их созидания.
К основным компонентам эстетической культуры чаще всего относят: (1) определенный объем и качество информативных эстетико-теоретических и специально-художественных знаний, на основе которых формируется эстетическое отношение к явлениям жизни и искусства; (2) эстетические взгляды и убеждения, появляющиеся как результат практического опыта личности и приобретенных эстетических знаний и проявляющиеся в эстетических идеалах, оценочных представлениях и предпочтениях; (3) навыки и способности, обеспечивающие необходимое качество эстетического восприятия; (4) степень приобщенности к различным формам творческой деятельности, к эстетическому и художественному созиданию.
Не представляет особого труда заметить, что процесс эстетического воспитания в конечном итоге имеет двуединую структуру:
- формирование развитого эстетического сознания (чувств, вкусов, идеалов, потребностей, способностей правильно понимать эстетические ценности и т. д.);
- формирование творческой активности личности ее спо собности жить и творить по законам красоты, участвовать в созидании эстетической реальности.
Иногда понятие эстетического воспитания употребляется в узком смысле слова как формирование эстетических установок и ориентации, проявляющихся в форме потребностей, интересов, вкусов и идеалов, и соотносится с понятием эстетического образования, которое означает процесс приобретения эстетической грамотности, овладения сложившимися теоретико-эстетическими взглядами, идеями и концепциями, и с понятием эстетического обучения, направленного на выработку практических навыков и умений. Однако значительно чаще термин «эстетическое воспитание» используется в широком смысле слова. В этом случае он охватывает все три компонента, которые были перечислены выше.
Эстетическое воспитание не следует смешивать с художественным воспитанием. Художественное воспитание - это деятельностное саморазвитие личности, результатом которого является формирование способности человека полноценно воспринимать и верно оценивать явления искусства, а также способности и умения творить в тех или иных видах его. Таким образом, художественное воспитание уже эстетического. Оно формирует человека только художественными средствами и, в основном, для искусства. Его специфические цели связаны исключительно с формированием художников и высококультурных потребителей искусства.
 2015-04-30
2015-04-30 384
384








