В основании происхождения капитализма, поясняет свою идею Маркс, лежит превращение одной формы частной собственности, основанной на личном труде, в другую, основанную на наемном труде. Страны Западной Европы находятся на второй исторической стадии, а Россия не подошла еще даже к первой. Ведь земля никогда не была частной собственностью русских крестьян, ей еще предстоит стать таковой. Следовательно, о переходе к капитализму в точном смысле говорить еще рано. Естественно, что к России нельзя применить теоретические принципы, которые описывают развитие капитализма в Англии «Таким образом, я точно ограничил «историческую неизбежность» этого процесса странами Западной Европы»1.
Как видим, анализ общины как универсально-исторического института человеческого общества, сравнение разных стадий и национальных особенностей понадобились Марксу для того, чтобы доказать особый путь России. К противоположным выводам приходит его единомышленник Ленин. Основной замысел его книги «Развитие капитализма в России» — доказать «историческую неизбежность» капитализма в России, обосновав его сходство
|
|
|
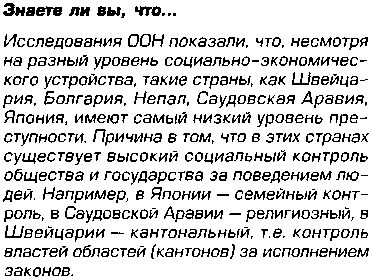
|
(при сохранении различий не форма-ционного свойства) с аналогичными процессами в Западной Европе. Как видим, исходные утверждения у Маркса и Ленина существенно разнятся.
Начиная с 1875 г. Маркс, за 6 недель изучивший русский язык, внимательно приглядывается к России. Он читает русскую прессу, научные монографии, знакомится со статистикой, переписывается с некоторыми русскими мыслителями. Иными словами, познает Россию не из вторых рук. Естественным результатом тщательного научного изыскания явился ответ на письмо Засулич, где Маркс оговаривается, что «специальные изыскания» по истории России проводились на основе значительного числа первоисточников". Но и Ленин, будучи в ссылке, не менее тщательно изучает статистику и произведения отечественных экономистов, философов, историков и юристов. Россию он знает не со стороны. Ему легче судить о реальной ситуации в стране. Правда, литературу он просматривает под определенным политическим углом зрения, стало быть, не может не подходить к отбору пристрастно и к интерпретации фактов. К тому времени 27-летний Ленин достаточно основательно постиг основы марксистской теории. Книга «Развитие капитализма в России» стала первой практической проверкой того, насколько прочными были эти знания. Эмпирической базой послужила пореформенная (после реформ 1861 — 1864 гг.) Россия — страна удивительных контрастов,
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 400. * Там же. С. 251.
страна, не похожая ни на Запад, ни на Восток, страна, где тенденции развития Запада и Востока сплелись в такой сложный клубок, разобраться в котором социальная мысль и теоретическая наука тогдашней России были просто не в состоянии.
|
|
|
Статистические данные, собранные в самой России, вполне подтверждают, по словам Ленина9, его выводы о существовании капитализма в России. Однако те же самые данные привели Маркса к противоположным выводам. Пусть сторонники капитализма в России, пишет Маркс, «объяснят мне, каким образом могли ввести у себя, можно сказать, в несколько дней механизм обмена (банки, кредитные общества и т.п.), выработка которого потребовала на Западе целых веков?»10.
Наличие в России бирж, банков, акционерных обществ, железных дорог, как и крупных промышленных предприятий, которыми так гордились сторонники российского капитализма, Маркс относил к «наростам капиталистической системы», которые в отсталой стране при сильной государственной опеке «легче всего было привить»". То, что российские ученые относили к базовым признакам капитализма, Маркс считал второстепенным, и наоборот: то, что являлось ключевым, а именно архаические институты феодализма, наши мыслители воспринимали как несущественные черты общества, как своеобразные издержки производства. Если на создание финансовых механизмов цивилизованного капитализма в Западной Европе ушли века, то можно ли было их создать за 20 лет в отсталой России? Скорее всего, нет. Тогда вопрос о том, одну или разные реальности изучали Маркс и Ленин, разделенные во времени 20 годами, решается почти однозначно.
Если Маркс был прав, то Россия в конце XIX в. являлась представительной страной феодализма подобно тому, как в том же XIX в. Англия служила представительным типом капитализма. По историческим меркам между ними огромная дистанция.
Способна ли Россия одним скачком преодолеть такое расстояние и из феодальной формации, к каковой она, по определению Маркса, относилась в XIX в., перескочить в капиталистическую, к которой она, по определению Ленина, относилась в конце того же века? Более правильная формулировка вопроса такая: способна ли она скачком перескочить к коммунизму? Оставаясь на одной идейной платформе, Маркс и Ленин видели цель исторического развития в переходе всех стран именно к коммунизму. Таким образом, капитализм выступал для них промежуточной станцией, а не пунктом назначения. В этом они сходились. Расходились они в другом: Маркс предлагал России миновать промежуточную станцию, а Ленин счел необходимым пройти ее, пусть даже ценой больших потерь.
То, что служит причиной исторического отставания России — поземельная община, по Марксу, способно превратиться в фактор опережения. Маркс не видел исторической неизбежности для России проходить тот же путь, который прошли западноевропейские страны. У нее должна быть своя дорога, своеобразие которой определяется наличием сельской общины, суще-
9 Ленин В.И. Указ. соч. С. 417.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 413." Там же. С. 409.
ствующей в общенациональном масштабе. Она дает России преимущество перед странами, порабощенными капиталистическим режимом.
Что такое община для социалиста? Прежде всего кооперированный высокотехнологичный сельскохозяйственный труд, отсутствие эксплуатации человека человеком, победа коллективистских ценностей над индивидуалистическими. Все это есть в русской общине. Следовательно, она — готовая предпосылка для исторически более высокого этапа развития — коммунизма. Надо только грамотно распорядиться своим национальным достоянием. Для этого Маркс рекомендует сохранить общину в общенациональном масштабе, но уничтожить раздутый, крайне неэффективный управленческий
|
|
|
аппарат (бюрократию), опять же в общенациональном масштабе, позаимствовать у Запада передовые технологии, на базе которых перестроить промышленность и сельское хозяйство. Для Маркса обшина — «точка опоры социального возрождения России»12.
Казалось бы, полная утопия. Но посмотрим, как развивалась Япония после Второй мировой войны. Полностью разрушенные промышленность и экономика, на восстановление нет ни денег, ни кадров, ни сил. Тогда правительство, взяв на Западе кредиты, закупило новейшее оборудование, обучило в Америке десятки тысяч молодых менеджеров и сохранило национальные традиции — коллективизм и групповую психологию. Японцы не читали Маркса, выбирая стратегию развития. Но руководствуясь совершенно другой 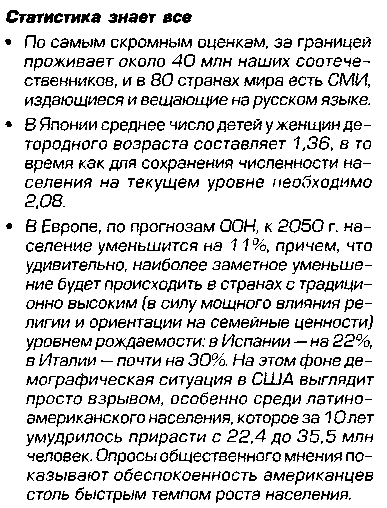 теорией, они пришли к тому же, что предлагал в XIX в. России Маркс. Вывод следует лишь один: Маркс предвосхитил объективную логику развития мировой истории, и его рекомендации не были утопическими.
теорией, они пришли к тому же, что предлагал в XIX в. России Маркс. Вывод следует лишь один: Маркс предвосхитил объективную логику развития мировой истории, и его рекомендации не были утопическими.
Последовали его советам большевики и Ленин? Нет, они сделали все наоборот: разрушили общину, бросились догонять Запад, восстанавливать износившееся оборудование, сохранили и затем преумножили неповоротливую бюрократию. Если бы правительство большевиков поступило в свое время, как японское правительство, то кто знает, где бы сегодня находилась Россия?
Таким образом, Маркс и Ленин рассуждали по-разному. Для Ленина поземельная община — пережиток варварства. В противоположность Марксу социальное возрождение России Ленин видел не в ее сохранении, а в окончательном разложении и углублении капитализма как более прогрессивного общественного строя. Только через его историческое отрицание Россия должна перейти к социализму, но прежде — исчерпать его до конца. Тогда
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 251.
все получится по Марксу, полагал Ленин, — социализм и коммунизм возникают на вершине капитализма.
Отсюда логически вытекает, что Ленин отрицал историческое своеобразие России, предлагал ей двигаться тем же путем, что и европейские страны.
|
|
|
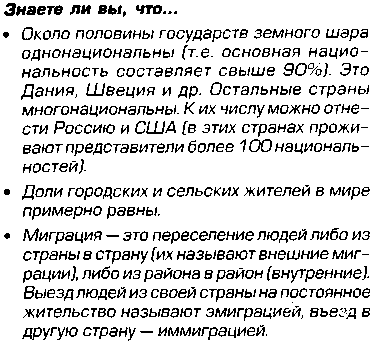
|
Такова типичная позиция западников. И это было не только вчера, но и сегодня кое-кто полагает, что экономические законы универсальны, что на пути к капитализму нет исключений. Однако нелишне напомнить известные слова Маркса, категорически отвергавшего попытку трансформировать его «исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются...»13.
С универсальностью экономических законов не спорил бы, пожалуй, и Маркс, и Ленин тоже. Но существуют еще и социальные законы. Здесь позиции Маркса и Ленина расходились: Маркс стоял за уникальность социальных условий конкретного общества, а Ленин делал акцент на их универсальности. Маркс предлагал не плестись за Европой, а выиграть время и сократить путь, продвигаясь к социализму самобытным путем. Ленин настаивал на повторении для России общецивили-зационного тренда, необходимости идти одной дорогой с Европой, т.е. догнать ее, а затем уже, преобразившись в социалистическое общество, перегнать. Тоже интересный проект. Но он означает не только догоняющую модернизацию, но и выбор социализма с сугубо инструментальной задачей — как способ догнать развитые капиталистические страны.
Уже в 1918 г. Ленин на заседании Совнаркома во всеуслышание заявил, что построить социализм без высокой культуры и производительности труда невозможно, а они в свою очередь невозможны без внедрения тейлоризма. Догнать капитализм с помощью развитых им же самим методов научной организации труда — достаточно оригинальное предложение. Ленин призывает молодежь изучать, преподавать и распространять тейлоризм по всей России. В начале 1920-х гг., когда надо было восстанавливать разрушенное хозяйство, Ленин первым делом предложил создать сеть исследовательских институтов, которые бы изучали и приспосабливали западный опыт к советским условиям. Но это и есть догоняющее развитие.
В те годы мы не стеснялись учиться у капиталистов. В издававшемся Центральным институтом труда журнале «Организация труда» существовала специальная рубрика «За рубежом». Здесь помещались сообщения обо всех сколько-нибудь примечательных конференциях по менеджменту, промышленной гигиене, теории и практике администрирования. Свежие новости
и Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 120.
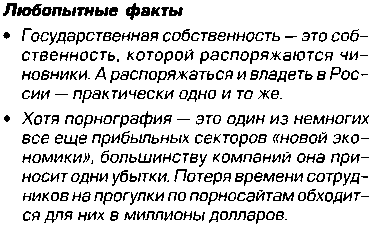
|
поступали из Брюсселя, Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Берлина. Редакция журнала, а в нее входили и зарубежные ученые, не только держала читателей в курсе международной жизни, но и давала анализ передовых методик и программ управления, созданных за рубежом. Кроме цитовского журнала зарубежная информация поступала и по другим каналам. В стране переводилось тогда до 70% зарубежных монографий. Правда, вслед за кратковременным всплеском наступил глубокий период застоя. С конца 1920-х до конца 1950-х гг. в стране не разработано практически ничего существенного, что могло бы обогатить отечественный или зарубежный опыт управления. Именно в эти три десятилетия за рубежом, прежде всего в США, отмечается фундаментальный сдвиг в области науки управления.
Таким образом, и до и после революции 1917 г. Ленин относил Россию к капиталистическим странам. Разница между двумя периодами заключалась в том, что вначале он переоценивал уровень капиталистического развития России, подталкивая ее к социальной революции, а потом недооценивал, предлагая ее немедленно индустриализовать, сделать повсеместно грамотной и одновременно религиозной, освоить западную науку управления и резко поднять производительность труда. Соревнование с капитализмом социализм может выиграть только на этом фронте, считал вождь мирового пролетариата.
 2015-05-15
2015-05-15 590
590








