Круг девятый – Второй пояс (Антенора) – Предатели родины и единомышленников (окончание) – Третий пояс (Толомея) – Предатели друзей и сотрапезников
Подняв уста от мерзостного брашна,
Он вытер свой окровавленный рот
О волосы, в которых грыз так страшно,
Потом сказал: «Отчаянных невзгод
Ты в скорбном сердце обновляешь бремя;
Не только речь, и мысль о них гнетет.
Но если слово прорастет, как семя,
Хулой врагу, которого гложу,
Я рад вещать и плакать в то же время.
Не знаю, кто ты, как прошел межу
Печальных стран, откуда нет возврата,
Но ты тосканец, как на слух сужу.
Я графом Уголино был когда-то,
Архиепископом Руджери – он;[485]
Недаром здесь мы ближе, чем два брата.
Что я злодейски был им обойден,
Ему доверясь, заточен как пленник,
Потом убит, – известно испокон;
Но ни один не ведал современник
Про то, как смерть моя была страшна.
Внемли и знай, что сделал мой изменник.
В отверстье клетки – с той поры она
Голодной Башней называться стала,
|
|
|
И многим в ней неволя суждена –
Я новых лун перевидал немало,
Когда зловещий сон меня потряс,
Грядущего разверзши покрывало.
Он, с ловчими, – так снилось мне в тот час, –
Гнал волка и волчат от их стоянки
К холму, что Лукку заслонил от нас;
Усердных псиц задорил дух приманки,[486]
А головными впереди неслись
Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.[487]
Отцу и детям было не спастись:
Охотникам досталась их потреба,
И в ребра зубы острые впились.
Очнувшись раньше, чем зарделось небо,
Я услыхал, как, мучимые сном,
Мои четыре сына[488] просят хлеба.
Когда без слез ты слушаешь о том,
Что этим стоном сердцу возвещалось, –
Ты плакал ли когда-нибудь о чем?
Они проснулись; время приближалось,
Когда тюремщик пищу подает,
И мысль у всех недавним сном терзалась.[489]
И вдруг я слышу – забивают вход
Ужасной башни; я глядел, застылый,
На сыновей; я чувствовал, что вот –
Я каменею, и стонать нет силы;
Стонали дети; Ансельмуччо мой
Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?»
Но я не плакал; молча, как немой,
Провел весь день и ночь, пока денница
Не вышла с новым солнцем в мир земной.
Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, –
Себе я пальцы в муке укусил.
Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:
«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела, –
Возьми их сам; так справедливость судит».
Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
|
|
|
Зачем, земля, ты нас не пожрала!
Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стеня:
«Отец, да помоги же!» – и скончался.
И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали друг за другом
От пятого и до шестого дня.
Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом».[490]
Тут он умолк и вновь, скосив зрачки,
Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая
Как у собаки крепкие клыки.
О Пиза, стыд пленительного края,
Где раздается si![491] Коль медлит суд
Твоих соседей, – пусть, тебя карая,
Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,[492]
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!
Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголино, замки уступив,[493] –
За что детей вести на крест неправый!
Невинны были, о исчадье Фив,[494]
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого я назвал,[495] в песнь вложив.
Мы шли вперед[496] равниною покатой
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.
Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;
Затем что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.
И в этот час, хоть и казалось мне,
Что все мое лицо, и лоб, и веки
От холода бесчувственны вполне,
Я ощутил как будто ветер некий.
«Учитель, – я спросил, – чем он рожден?
Ведь всякий пар угашен здесь навеки».[497]
И вождь: «Ты вскоре будешь приведен
В то место, где, узрев ответ воочью,
Постигнешь сам, чем воздух возмущен».
Один из тех, кто скован льдом и ночью,
Вскричал: «О души, злые до того,
Что вас послали прямо к средоточью,
Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».
И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажусь под ледяной корою!»
«Я – инок Альбериго, – он сказал, –
Тот, что плоды растил на злое дело[498]
И здесь на финик смокву променял».[499]
«Ты разве умер?»[500] – с уст моих слетело.
И он в ответ: «Мне ведать не дано,
Как здравствует мое земное тело.
Здесь, в Толомее, так заведено,
Что часто души, раньше, чем сразила
Их Атропос[501], уже летят на дно.
И чтоб тебе еще приятней было
Снять у меня стеклянный полог с глаз,
Знай, что, едва предательство свершила,
Как я, душа, вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нем он остается,
Доколе срок для плоти не угас.
Душа катится вниз, на дно колодца.
Еще, быть может, к мертвым не причли
И ту, что там за мной от стужи жмется.
Ты это должен знать, раз ты с земли:
Он звался Бранка д'Орья;[502] наша братья
С ним свыклась, годы вместе провели».
«Что это правда, мало вероятья, –
Сказал я. – Бранка д'Орья жив, здоров,
Он ест, и пьет, и спит, и носит платья».
И дух в ответ: «В смолой кипящий ров
Еще Микеле Цанке не направил,
С землею разлучась, своих шагов,
Как этот беса во плоти оставил
Взамен себя, с сородичем одним,
С которым вместе он себя прославил.[503]
Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их!» И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.
О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?
С гнуснейшим из романцев[504] заодно
Я встретил одного из вас,[505] который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры.
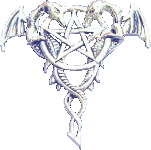
 2015-06-16
2015-06-16 205
205








