Круг шестой (окончание)
Ход не мешал речам, и речи – ходу;
И мы вперед спешили, как спешит
Корабль под ветром в добрую погоду.
А тени, дважды мертвые на вид,
Провалы глаз уставив на живого,
Являли ясно, как он их дивит.
Я, продолжая начатое слово,
Сказал: «Она, быть может, к вышине
Идет медлительней из-за другого.

Но где Пиккарда,[891] – скажешь ли ты мне?
А здесь – кого бы вспомнить полагалось
Из тех, кто мне дивится в тишине?»
«Моя сестра, чьей красоте равнялась
Ее лишь благость, радостным венцом
На высотах Олимпа[892] увенчалась».
Так он сказал сначала; и потом:
«Ничье прозванье здесь не под запретом;
Ведь каждый облик выдоен постом.
Вот Бонаджунта Луккский,[893] – и при этом
Он пальцем указал, – а тот, щедрей,
Чем прочие, расшитый темным цветом,[894]
Святую церковь звал женой своей;
Он был из Тура; искупает гладом
Больсенских, сваренных в вине, угрей».[895]
Еще он назвал многих, шедших рядом;
И не был недоволен ни один:
Я никого не видел с мрачным взглядом.
Там грыз впустую пильский Убальдин[896]
И Бонифаций, посохом Равенны
Премногих пасший длинный ряд годин.[897]
Там был мессер Маркезе;[898] в век свой бренный
Он мог в Форли, не иссыхая, пить,
Но жаждой мучился ежемгновенной.
Как тот, кто смотрит, чтобы оценить,
Я, посмотрев, избрал поэта Лукки,
Который явно жаждал говорить.
Сквозь шепот, имя словно бы Джентукки
Я чуял там,[899] где сам он чуял зной
Ниспосланной ему язвящей муки.
«Дух, если хочешь говорить со мной, –
Сказал я, – сделай так, чтоб речь звучала
И нам обоим принесла покой».
«Есть женщина, еще без покрывала,[900] –
Сказал он. – С ней отрадным ты найдешь
Мой город, хоть его бранят немало.
Ты это предсказанье унесешь
И, если понял шепот мой превратно,
Потом увидишь, что оно не ложь.[901]
Но ты ли тот, кто миру спел так внятно
Песнь, чье начало я произношу:
«Вы, жены, те, кому любовь понятна?»
И я: «Когда любовью я дышу,
То я внимателен; ей только надо
Мне подсказать слова, и я пишу».[902]
И он: «Я вижу, в чем для нас преграда,
Чем я, Гвиттон, Нотарий[903] далеки
От нового пленительного лада.
Я вижу, как послушно на листки
Наносят ваши перья[904] смысл внушенный,
Что нам, конечно, было не с руки.
Вот все, на взгляд хоть самый изощренный,
Чем разнятся и тот и этот лад».
И он умолк, казалось – утоленный.
Как в воздухе сгрудившийся отряд
Проворных птиц, зимующих вдоль Нила,[905]
Порой спешит, вытягиваясь в ряд,
Так вся толпа вдруг лица отвратила
И быстрым шагом дальше понеслась,
От худобы и воли легкокрыла.
И словно тот, кто, бегом утомясь,
Из спутников рад пропустить любого,
Чтоб отдышаться, медленно пройдясь,
Так здесь, отстав от сонмища святого,
Форезе шел со мной, нетороплив,
И молвил: «Скоро ль встретимся мы снова?»
И я: «Не знаю, сколько буду жив;
Пусть даже близок берег, но желанье
К нему летит, меня опередив;
Затем что край, мне данный в обитанье,[906]
Что день – скуднее доблестью одет
И скорбное предвидит увяданье».
И он: «Иди. Зачинщика всех бед
Звериный хвост, – мне это въяве зримо, –
Влачит к ущелью, где пощады нет.
Зверь мчится все быстрей, неудержимо,
И тот уже растерзан, и на срам
Оставлен труп, простертый недвижимо.
Не много раз вращаться тем кругам
(Он вверх взглянул), чтобы ты понял ясно
То, что ясней не вымолвлю я сам.[907]
Теперь простимся; время здесь всевластно,
А, идя равной поступью с тобой,
Я принужден терять его напрасно».
Как, отделясь от едущих гурьбой,
Наездник мчит коня насколько можно,
Чтоб, ради славы, первым встретить бой,
Так, торопясь, он зашагал тревожно;
И вновь со мной остались эти два,
Чье имя в мире было столь вельможно.
Уже его я различал едва,
И он не больше был доступен взгляду,
Чем были разуму его слова,
Когда живую, всю в плодах, громаду
Другого древа я увидел вдруг,
Крутого склона обогнув преграду.
Я видел – люди, вскинув кисти рук,
Взывали к листьям, веющим широко,
Как просит детвора, теснясь вокруг,
А окруженный не дает до срока,
Но, чтобы зуд желания возрос,
Приманку держит на виду высоко.
Потом ушли, как пробудясь от грез.
Мы подступили, приближаясь слева,
К стволу, не внемлющему просьб и слез.
«Идите мимо! Это отпрыск древа,
Которое растет на высотах
И от которого вкусила Ева».[908]
Так чей-то голос говорил в листах;
И мы, теснясь, запретные пределы
Вдоль кручи обогнули второпях.
«Припомните, – он говорил, – Нефелы
Проклятый род, когда он, сыт и пьян,
На бой с Тезеем ринулся, двутелый;[909]
И как вольготно лил еврейский стан,
За что и был отвергнут Гедеоном,
Когда с холмов он шел на Мадиан».[910]
Так, стороною, под нависшим склоном,
Мы шли и слушали про грех обжор,
Сопровожденный горестным уроном.
Потом, все трое, вышли на простор
И так прошли в раздумье, молчаливы,
За тысячу шагов, потупя взор.
«О чем бы так задуматься могли вы?» –
Нежданный голос громко прозвучал,
Так что я вздрогнул, словно зверь пугливый.
Я поднял взгляд; вовеки не блистал
Настолько ослепительно и ало
В горниле сплав стекла или металл,
Как тот блистал, чье слово нас встречало:
«Чтобы подняться на гору, здесь вход;
Идущим к миру – здесь идти пристало».
Мой взор затмился, встретив облик тот;
И я пошел вослед за мудрецами,
Как человек, когда на слух идет.

И как перед рассветными лучами
Благоухает майский ветерок,
Травою напоенный и цветами,
Так легкий ветер мне чело облек,
И я почуял перьев мановенье,
Распространявших амврозийный ток,
И услыхал: «Блажен, чье озаренье
Столь благодатно, что ему чужда
Услада уст и вкуса вожделенье,
Чтоб не алкать сверх меры никогда».
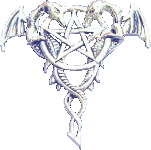
 2015-06-16
2015-06-16 192
192








