Круг седьмой (продолжение)
Пока мы шли, друг другу вслед, по краю
И добрый вождь твердил не раз еще:
«Будь осторожен, я предупреждаю!» –
Мне солнце било в правое плечо
И целый запад в белый превращало
Из синего, сияя горячо;
И где ложилась тень моя, там ало
Казалось пламя; и толпа была,
В нем проходя, удивлена немало.
Речь между ними обо мне зашла,
И тень, я слышал, тени говорила:
«Не таковы бесплотные тела».
Иные подались, сколь можно было,
Ко мне, стараясь, как являл их вид,
Ступать не там, где их бы не палило.
«О ты, кому почтительность[923] велит,
Должно быть, сдерживать поспешность шага,
Ответь тому, кто жаждет и горит![924]
Не только мне ответ твой будет благо:
Он этим всем нужнее, чем нужна
Индийцу или эфиопу влага.
Скажи нам, почему ты – как стена
Для солнца, словно ты еще не встретил
Сетей кончины». Так из душ одна[925]
Мне говорила; я бы ей ответил
Без промедленья, но как раз тогда
Мой взгляд иное зрелище приметил.
|
|
|
Навстречу этой новая чреда
Шла по пути, объятому пыланьем,
И я помедлил, чтоб взглянуть туда.
Вдруг вижу – тени, здесь и там, лобзаньем
Спешат друг к другу на ходу прильнуть
И кратким утешаются свиданьем.
Так муравьи, столкнувшись где-нибудь,
Потрутся рыльцами, чтобы дознаться,
Быть может, про добычу и про путь.
Но только миг объятья дружбы длятся,
И с первым шагом на пути своем
Одни других перекричать стремятся, –
Те, новые: «Гоморра и Содом!»,[926]
А эти: «В телку лезет Пасифая[927],
Желая похоть утолить с бычком!»
Как если б журавлей летела стая –
Одна к пескам, другая на Рифей,[928]
Та – стужи, эта – солнца избегая,
Так расстаются две чреды теней,
Чтоб снова петь в слезах обычным ладом
И восклицать про то, что им сродней.
И двинулись опять со мною рядом
Те, что меня просили дать ответ,
Готовность слушать выражая взглядом.
Я, видя вновь, что им покоя нет,
Сказал: «О души, к свету мирной славы
Обретшие ведущий верно след,
Мой прах, незрелый или величавый,
Не там остался: здесь я во плоти,
Со мной и кровь ее, и все суставы.
Я вверх иду, чтоб зренье обрести:
Там есть жена,[929] чья милость мне дарует
Сквозь ваши страны смертное нести.
Но, – и скорее да восторжествует
Желанье ваше, чтоб вас принял храм
Той высшей тверди, где любовь ликует, –
Скажите мне, а я письму предам,
Кто вы и эти люди кто такие,
Которые от вас уходят там».
Так смотрит, губы растворив, немые
От изумленья, дикий житель гор,
Когда он в город попадет впервые,
Как эти на меня стремили взор.
|
|
|
Едва с них спало бремя удивленья, –
Высокий дух дает ему отпор, –
«Блажен, кто, наши посетив селенья, –
Вновь начал тот, кто прежде говорил, –
Для лучшей смерти черплет наставленья!
Народ, идущий с нами врозь, грешил
Тем самым, чем когда-то Цезарь клики
«Царица» в день триумфа заслужил.[930]
Поэтому «Содом» гласят их крики,
Как ты слыхал, и совесть их язвит,
И в помощь пламени их стыд великий.
Наш грех, напротив, был гермафродит;
Но мы забыли о людском законе,
Спеша насытить страсть, как скот спешит,
И потому, сходясь на этом склоне,
Себе в позор, мы поминаем ту,
Что скотенела, лежа в скотском лоне.[931]
Ты нашей казни видишь правоту;
Назвать всех порознь мы бы не успели,
Да я на память и не перечту.
Что до меня, я – Гвидо Гвиницелли;[932]
Уже свой грех я начал искупать,
Как те, что рано сердцем восскорбели».
Как сыновья, увидевшие мать
Во времена Ликурговой печали,
Таков был я, – не смея показать, –
При имени того, кого считали
Отцом и я, и лучшие меня,
Когда любовь так сладко воспевали.[933]
И глух, и нем, и мысль в тиши храня,
Я долго шел, в лицо его взирая,
Но подступить не мог из-за огня.
Насытя взгляд, я молвил, что любая
Пред ним заслуга мне милей всего,
Словами клятвы в этом заверяя.
И он мне: «От признанья твоего[934]
Я сохранил столь светлый след, что Лета
Бессильна смыть иль омрачить его.
Но если прямодушна клятва эта,[935]
Скажи мне: чем я для тебя так мил,
Что речь твоя и взор полны привета?»
«Стихами вашими, – ответ мой был. –
Пока продлится то, что ныне ново,[936]
Нетленна будет прелесть их чернил».
«Брат, – молвил он, – вот тот[937] (и на другого
Он пальцем указал среди огней)
Получше был ковач родного слова.
В стихах любви и в сказах[938] он сильней
Всех прочих; для одних глупцов погудка,
Что Лимузинец[939] перед ним славней.
У них к молве, не к правде ухо чутко,
И мненьем прочих каждый убежден,
Не слушая искусства и рассудка.
«Таков для многих старых был Гвиттон[940],
Из уст в уста единственно прославлен,
Покуда не был многими сражен.
Но раз тебе простор столь дивный явлен,
Что ты волен к обители взойти,
К той, где Христос игуменом поставлен,
Там за меня из «Отче наш» прочти
Все то, что нужно здешнему народу,
Который в грех уже нельзя ввести».
Затем, – быть может, чтобы дать свободу
Другим идущим, – он исчез в огне,
Подобно рыбе, уходящей в воду.
Я подошел к указанному мне,
Сказав, что вряд ли я чье имя в мире
Так приютил бы в тайной глубине.
Он начал так, шагая в знойном вире:
«Tan m'abellis vostre cortes deman,
Qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
Consiros vei la passada folor,
E vei jausen lo joi qu'esper, denan.
Ara vos prec, per aquella valor
Que vos guida al som de l'escalina,
Sovenha vos a temps de ma dolor!»[941]
И скрылся там, где скверну жжет пучина.
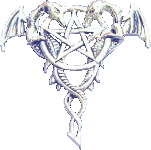
 2015-06-16
2015-06-16 185
185








