- Я совсем изжарилась. Может, ну ее, эту лекцию! Айда на пляж!
- Всеми руками «за»! Пошли «потиху-потрохху»!
Изображенные трансакции называются параллельными. Анализ реального общения позволил Берну сформулировать важный закон речевого взаимодействия: пока трансакции параллельны, процесс коммуникации протекает бесконфликтно.
Существует иной тип параллельных трансакций - психологического неравноправия (Р «-> Д и Д «-> Р).
Это взаимодействие опеки, заботы, подавление или восхищения, каприза, беспомощности. Отец опекает сына, научный руководитель консультирует студента-дипломника.
Разумеется, межличностное взаимодействие не ограничивается одной трансакцией. Оно может протекать довольно длительное время, при этом характер трансакций может неоднократно изменяться. Длительное социально-коммуникативное взаимодействие языковых личностей носит название интеракции. В реальном общении отражением интеракции выступает дискурс - речевое произведение, представляющее собой отрезок «живой речи». Его можно рассматривать как арену, на которой происходит взаимодействие участников коммуникации.
|
|
|
Дискурс, который можно представить в виде параллельных трансакций, как правило, не является конфликтным. Однако не всегда социально-коммуникативное взаимодействие людей протекает столь бесконфликтно. В пространстве межличностной коммуникации большое (если не сказать - огромное) место занимают коммуникативные конфликты. Это тема следующей лекции.
АТГбТпи ё даааГёу аёу ТапбаэааГёу
1. Каковы характеристики межличностного общения?
2. Как социальная роль и социальный статус влияют на про-
цесс коммуникации?
3. Каким нормам подчиняется ролевое поведение?
4. Приведите примеры экспектаций.
5. Что представляют собой стереотипы ролевого поведения?
6. Проанализируйте использование ролевых ожиданий в рас-
сказе А.И. Куприна «С улицы». Герой рассказа, опустившийся по-
луинтеллигент-попрошайка, ловко использует признаки ролевого
поведения для того, чтобы войти в доверие к людям разного соци-
ального положения.
«Надо стрелять быстро, чтобы не надоесть, не задержать, да и фараоновых мышей опасаешься, потому и стараешься совместить всё сразу: и кротость, и убедительность, и цветы красноречия. Бьешь на актера. Например: «Милостивый государь! Драматический актер - в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколько сантимов на обед:»
Студенту говорю так: «Коллега, помогите бывшему рабочему, административно лишенному столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!»
Если идет веселая компания в подпитии, вали на оригинальность: «Господа, вы срываете розы жизни, мне же достаются тернии. Вы сыты, я - голоден. Вы пьете лафит и сотерн, а моя душа жаждет казенной водки. Помогите на сооружение полдиковинки бывшему профессору белой и черной магии, а ныне кавалеру зеленого змия!»
|
|
|
7. Как меняются и языковое содержание, и стиль высказыва-
ний героя этого рассказа в зависимости от адресата речи?
8.В чем суть трансакционного анализа Э. Берна?
9.Приведите примеры разных Я-состояний.
10. Какие трансакции называют параллельными?
11. В каких случаях возникают транакции психологического
неравноправия?
1 2. При каких условиях возникает интеракция?
АТГТёГёоаёиГау ёёбабаббба
1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. - Л., 1992.
2. Жельвис, В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвисти-
ческая интерпретация речевого воздействия / В.И. Жельвис. - Ярос-
лавль, 1 990.
3. Клюев, Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. - М., 1998.
4. Клюканов, И.Э. Динамика межкультурного общения: системно-семиотическое исследование / И.Э. Клюканов. - Тверь, 1998.
5. Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века / Г.Г. Почепцов. - М., 1999.
6. Почепцов, Г.Г. Семантические проблемы коммуникации: автореф. дис.... док. псих. наук / Г.Г. Почепцов. - Киев: КГУ, 1988.
7. Речевое общение: цели, мотивы, средства. - М., 1985.
8. Ришар, Ж.Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений / Ж.Ф. Ришар. - М., 1998.
9. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие / И.А. Стер-нин. - Воронеж, 2001.
10.Тарасов, Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания / Е.Ф. Тарасов // Этнокультурная специфика языкового сознания. - М., 1996. - С. 7 - 22.
Аёааа 15. 'тЁр1ЁЁГААЁЙ0ЁхА|\1ЕА13 ЕИОЁЁЕ0 1Ё1АЁ13
1. Коммуникативный конфликт.
2. Коммуникативные стратегии разных языковых личностей.
3. Уровни коммуникативной компетенции.
4. Языковая личность и речевые жанры.
1. ЕТыбГёёаоёаГиё ёТГбёёёо
Изучение социально-психологических конфликтов привело ныне к появлению самостоятельной области научного знания - конфликтологии. Область социальной психолингвистики, которая призвана гармонизировать процесс коммуникативного взаимодействия людей, получила название - психолингвистической конфликтологии. В центре ее рассмотрения - коммуникативный конфликт - речевое столкновение, которое основано на агрессии, выраженной языковыми средствами. О природе коммуникативных конфликтов много написано работ. В работах зарубежных и отечественных исследователей показаны причины конфликтов, даны рекомендации по их предотвращению и выходу из конфликтной ситуации. Психолингвисты делают лишь первые шаги в освоении этого не совсем привычного для них объекта изучения.
В основе коммуникативного конфликта лежит стремление одного (или обоих) участников общения снять психологическое напряжение за счет собеседника. Такого рода разрядке (выпусканию паров) предшествует чувство фрустрации - психологический дискомфорт, возникающий при невозможности добиться какой-либо цели. В межличностном взаимодействии фрустрация возникает в том случае, когда (по мнению одной из конфликтующих сторон) коммуникативный партнер нарушает нормы (правила) поведения. Причиной социально-психологических конфликтов может быть и опоздание на работу, и не вовремя сданный отчет, и не приготовленный обед, и не вымытая посуда, и супружеская измена и т.д.
Примером внутриролевого конфликта служит противоречие (статусная несовместимость) между ролями воспитателя и кормильца у мужа.
Межролевой конфликт возникает, например, между ролью домохозяйки, выполняемой женой, и ролью кормильца, которую неспособен выполнить муж.
|
|
|
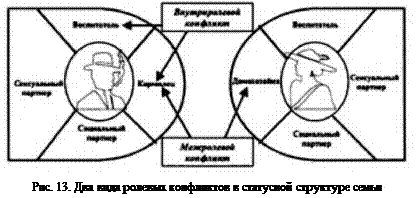
Конфликтная ситуация - это доведенная до поведенческого уровня дисфункция. Что ожидает кормилец от домохозяйки? Он вправе требовать вовремя выстиранного и поглаженного белья, приготовленного обеда и убранной квартиры. В обмен на эти услуги кормилец-муж предоставляет свои: большой объем физических и умственных усилий, затраченных на производстве ради добывания денег. Если работа поглощает чрезмерно много времени и муж не успевает выполнять другие свои функции, например, быть сексуальным партнером или хорошим воспитателем детей, у него возникает внутреннее недовольство. Это внутриролевой конфликт. О нем говорит мужу либо его собственное раздражение, либо раздражение супруги. Правда, последнее либо вовсе смягчается, либо приглушается в том случае, когда роль кормильца выполняется на очень высоком уровне: муж зарабатывает большие деньги или занимает высокий пост.
Межролевой конфликт проявляет себя в супружеских ссорах, когда один другого обвиняет в невыполнении каких-либо обязанностей: не отвел ребенка в детсад, не навестил старушку-мать, не купил продуктов в магазине, не вымыл за собой посуду, не отремонтировал кран на кухне и т.д. Причиной ссоры может выступать расхождение мнений по поводу того, как тратить деньги. На протяжении всего жизненного цикла семьи происходит процесс перераспределения обязанностей, связанных с одной из четырех фундаментальных ролей. Хотя правильнее было бы говорить, пожалуй, о переоценке того, что должен делать каждый из супругов, о корректировке понимания своих функций в семье. Часто поводом служит улучшение или ухудшение взаимоотношений между мужем и женой. Если ухудшение носит временный характер, то часть обязанностей, связанных с конкретной ролью, не выполняется эпизодически. При хроническом и нарастающем ухудшении взаимоотношений между супругами происходит полная переоценка и смысла семейной жизни, своей роли в семье и своих обязанностей. К примеру, муж после эмоционального охлаждения, перестает выполнять функцию сексуального партнера и кормильца.
|
|
|
Ожидаемые модели ролевого поведения в семье передаются от отца к сыну, от матери к дочери, закреплены традицией, описаны в многочисленной литературе и функционируют в рамках общественного сознания. Каждый юноша и девушка представляет благодаря этому, какими должны быть идеальная домохозяйка, мать, кормилец или верный супруг. Подобные нормы выполняют роль эталона, с которым сравнивается повседневная жизнь супругов. Помимо идеальных образцов существует множество живых примеров семейной жизни, с которыми также происходит постоянное сравнение того, насколько точно супруг или супруга исполняют свои роли. В семейных конфликтах результаты двукратного сравнения (с идеальными нормами и реальными соседями) пускаются в ход как аргументы и контраргументы: «У всех людей мужья как мужья, а ты...» и т. д.
В рамках трансакционного анализа Берна коммуникативный конфликт выглядит как система непараллельных трансакций. Вот примеры коммуникативных ситуаций такого рода. В магазине.
Покупатель: «Извините, почем этот сыр?» (В «-> В) Продавец: «У вас что, глаз нет?!» (Р «-> Д)
В ситуациях подобного типа всегда есть элемент активного несогласия, протеста против «неправильного», с точки зрения одного из участников общения, поведения собеседников. Это влечет за собой вербальную агрессию, провоцирующую коммуникативный конфликт. Не исключено, что объект агрессии будет вынужден проглотить колкости, но возможен и переход «в контратаку». Тогда в ответ на «укол» собеседника языковая личность делает свой «выпад».
Изучением психолингвистической природы коммуникативных конфликтов занимается ярославский ученый В.И. Жельвис. В своих работах он анализирует языковые формы выражения негативного отношения (инвективы) у самых различных народов. Исследователь обратил внимание на несхожесть в проявлении конфликтного поведения у представителей разных этносов. Так, например, жители Японии в бытовых ссорах, как правило, избегают бранных выражений, которые зачастую употребляют наши земляки. И это не означает, что японская культура не знает вербальной агрессии. Дело в том. Что речевой этикет японцев разработан столь детально, что в нем можно найти особые грамматические формы выражения разных степеней вежливости
Совершенно иначе и в чем-то диаметрально противоположным образом протекает речевой конфликт у гималайских шерпов. Последователи буддизма, шерпы исповедуют неприемлемость любых форм проявления насилия. Однако запрет на словесную агрессию постоянно нарушается: не имея возможности физического воздействия, шерпы компенсируют его словесными выражениями. У них даже существует своего рода ритуал «вышучивания на пирах», который подчас приобретает характер достаточно жесткой словесной дуэли.
В конфликтной ситуации разные языковые личности придерживаются неодинаковых коммуникативных стратегий.
2. ЁТыбГёёаОёаГйа пОбаоааёё бадГйб удиёТаиб ёё-нТПоаё
Отличия в коммуникативном поведении определяются индивидуально-личностными характеристиками говорящих, обусловленных их темпераментом, воспитанием и т.д. Разнообразие языковых форм, употребляемых в состоянии конфликта, можно свести к трем типам речевых стратегий: инвективному, куртуазному, рационально-эвристическому. В качестве единого принципа типологии здесь используется особенность аффективного поведения, который использует языковая личность для снятия фрустрации. Охарактеризуем каждый из указанных типов.
1. Инвективная стратегия конфликтного поведения демонстрирует пониженную знаковость: коммуникативные проявления здесь выступают отражением эмоционально-биологических реакций и выливаются в аффективную разрядку в форме брани, ругани (инвективы).
2. Куртуазная стратегия, наоборот, отличается повышенной семиотичностью речевого поведения, обусловленного тяготением говорящего к этикетным формам социального взаимодействия. В качестве крайней формы аффекта в этом случае предпочтение отдается плачу.
3. Рационально-эвристическая стратегия речевого поведения в ситуации конфликта опирается на рассудочность, здравомыслие. Этот тип разрядки тяготеет к смеху, как аффективной реакции. Негативные эмоции в этом случае выражаются косвенным, непрямым образом.
Еще раз подчеркнем, что коммуникативный конфликт несет в себе реализацию эмоциональной разрядки, снятия напряжения. Эффект такого «выпускания паров» сходен с тем, что древние греки называли термином КАТАРСИС - психологическое очищение, приносящее облегчение. Разные языковые личности стремятся к разному вербальному катарсису. Так, инвективная языковая личность разряжается при помощи прямой вербальной агрессии, куртуазная демонстрирует эмоцию обиды, рационально-эвристическая использует смеховой катарсис, представленный в виде иронии. Для иллюстрации возьмем типичную конфликтную ситуацию семейного общения: муж безуспешно ищет вечером свои тапочки, что вызывает крайнее раздражение жены. Муж:
- Ты случайно не знаешь, где мои тапочки? (Инвективный тип) Жена:
- Отстань от меня со своими тапочками! Я тебе не домработница!
(Куртуазный тип) Жена:
- Если тебе, конечно, не трудно, будь так добр: клади свои тапочки на место!
(Рационально-эвристический тип) Жена:
- Это, конечно, враги сперли. ЦРУ похитило. Изучают как оружие массового поражения.
Все три типа ответов даются с позиции берновского Родителя.
Речевая стратегия выбирается говорящим бессознательно. Конфликтное поведение как лакмусовая бумажка проявляет своеобразие языковой личности. Отмеченные черты поведения в ситуации эмоционального стресса обнаруживают себя и в других сферах речевого существования человека: в деловой, бытовой, педагогической и т.д.
Наблюдения за разными языковыми личностями позволяют говорить о разной степени их конфликтности. Среди своих знакомых мы можем выделить и людей, для которых конфликт - естественная форма межличностной коммуникации, и собеседников, общение с которыми никогда не переходит в конфликт.
3. ОбТаГё ёТТТбГёёаоёаГТё ёТТ'ГаоаГоёё
Способность к кооперации в межличностном взаимодействии можно считать одним из критериев для выделения уровней коммуникативной компетенции языковых личностей. В качестве единого основания здесь выступает тип доминирующей установки по отношению к другому участнику общения. На этой основе мы выделяем три уровня коммуникативной компетенции: КОНФЛИКТНЫЙ, ЦЕНТРИРОВАННЫЙ И КООПЕРАТИВНЫЙ
Конфликтный тип демонстрирует установку против партнера по коммуникации. Она отражает стремление одного из участников общения самоутвердиться за счет собеседника. Указанный тип представлен двумя разновидностями: конфликтно-агрессивным и конфликтно-манипуляторским.
Конфликтно-агрессивный подтип характеризуется тем, что один из участников (или оба) демонстрируют коммуникативному партнеру отрицательно заряженное эмоциональное отношение (агрессию), которая вызвана стремлением видеть в его поведении враждебность. Крайней формой вербальной агрессии становится коммуникативный садизм, когда партнер по общению становится объектом словесного издевательства.
В зависимости от индивидуальньгх особенностей речевого портрета участников общения агрессия может проявляться в разных формах. В автобусе:
- Да ты дашь мне/ выйти что ли/ безмозгая!
- Чё орешь/ баба базарная!
(две инвективные языковые личности)
- Какие мы с тобой были когда-то красивые. Особенно я.
- Да. А теперь мы такие страшные. Особенно ты.
(две куртуазные языковые личности)
Конфликтно-манипуляторский подтип речевого поведения ориентирован на коммуникацию, в ходе которой один из участников общения в своем собеседнике прежде всего видит объект манипуляции. Манипулятор самоутверждается, ставя собеседника в конкретной ситуации общения на нижнюю по сравнению с собой статусную позицию. Он не испытывает уважения к адресату своего высказывания, считая его по интеллектуальным и этическим качествам существом менее развитым. Доминирующая установка в речевом поведении подобной личности - навязывание своего мнения и преувеличение авторитетности своего жизненного пути (Я считаю... Ты должна... Я бы на твоем месте...). В ходе общения манипулятор проявляется в поучениях, советах, диктате.
Центрированный тип речевого поведения характеризуется наличием у одного (или у обоих) из участников общения установки на игнорирование партнера коммуникации.
- Ты в баню?
- Нет, я в баню.
- А-а. А я думал, что ты в баню.
Кооперативный тип речевого поведения отличается доминирующей установкой в общении на партнера коммуникации. С одной стороны, это может быть речевая мимикрия - стремление подладиться под собеседника не только на уровне содержания речи, но и на уровне языкового оформления содержания.
- Я не знаю/ неужели он вечно собирается/ на шее у матери сидеть?
- Не знаю/ не знаю//
- Пора уж самому деньги зарабатывать!
- Да/ пора уж//
- Хватит с родителей тянуть!
- Да/хватит...
С другой стороны, это стремление поставить себя на точку зрения собеседника, взглянуть на изображаемую в речи ситуацию его глазами.
Представленные выше разновидности речевого поведения свойственны практически всем людям. Каждый из нас в различных коммуникативных ситуациях может демонстрировать конфликтность, центрацию, кооперацию. Более того, в соответствии с намеченными типами взаимодействия можно дифференцировать жанры повседневного общения. Так конфликтное общение в большей мере соответствует жанру ссоры, выяснения отношений, центрированное чаще присутствует в легкомысленной болтовне, кооперативное отвечает природе жанра разговора по душам.
4. ВдйёТаау ёё-нТпои ё бан-аайа аэаГбй
Межличностное общение отражает систему социального взаимодействия людей. При этом многие из социально-коммуникативных ситуаций повторяются изо дня в день. И обслуживают их одни и те же речевые средства. Знаменитый русский филолог М.М. Бахтин назвал такие устойчивые коммуникативные формы речевыми жанрами. Речевые жанры - вербальное оформление типичных ситуаций социального взаимодействия людей.
Важно понимать, что жанры речи на являются внешними условиями коммуникации, которые говорящий / пишущий должен соблюдать в своей речевой деятельности. Жанры речи присутствуют в сознании носителей языка в виде готовых образцов (фреймов), влияющих на процесс разворачивания мысли в текст. При этом, как мы уже рассматривали раньше, формирование дискурса уже на ранних стадиях внутреннего планирования управляется коммуникативным намерением, которое соответствует конкретной ситуации общения и предопределяет выбор жанрового сценария. Разные речевые жанры требуют от говорящего / пишущего использования неодинаковых моделей порождения речи. Овладение навыками жанрового мышления предполагает довольно долгий путь обучения.
Речевой жанр в узком значении термина - это микрообряд, который представляет собой вербальное оформление взаимодействия партнеров коммуникации, т. е. обычно это достаточно длительное общение, порождающее диалогическое единство или монологическое высказывание, которое содержит несколько микротекстовых единиц. К числу речевых жанров можно отнести разговор по душам, болтовню, ссору, светскую беседу, анекдот, флирт и т.д.
Конечно, существуют и макрообразования, т.е. речевые формы, которые сопровождают социально-коммуникативные ситуации, объединяющие в своем составе несколько жанров. Такие образования называются гипержанрами. Так, например, можно выделить гипержанр «застолье», в состав которого войдут такие речевые жанры, как тост, застольная беседа, песня и т.д.
Вариативность в выборе речевых средств выражения внутри жанра предопределяется стратегиями и тактиками речевого поведения.
Стратегии внутрижанрового поведения определяют общую тональность внутрижанрового общения. Они зависят от индивидуальных особенностей языковых личностей, вступающих в общение, и влияют на тактические предпочтения говорящего.
Основное предназначение тактик внутрижанрового поведения - менять сюжетные повороты в развитии общения.
Жесткого соотнесения внутрижанровых стратегий и тактик, видимо, не существует. Однако, как показывают наблюдения, можно говорить о предпочтениях в выборе жанровых тактик, которые связаны с особенностями языковых личностей участников общения. Так, с очевидностью можно утверждать, что оскорбления и угрозы в ссоре чаще всего используются инвективной личностью, упреки и демонстрации обиды больше подходят личностям куртуазным, а рационально-эвристические языковые личности будут тяготеть к насмешкам и колкостям.
Изучение жанрового наполнения сознания человека дает ученым надежные критерии для создания типологии языковых личностей. Главным основанием такой типологии может стать степень владения / невладения языковой личностью нормами жанрового поведения.
АТ'ГдТпи ё даааГёу аёу дасЛСюёаГёу
1. Какие задачи решает психолингвистическая конфликтология?
2. Что является поводом для возникновения конфликтной ситуации?
3. Разные языковые личности в конфликтной ситуации придерживаются одинаковых коммуникативных стратегий или разных? Обоснуйте свой ответ.
4. Как представлен коммуникативный конфликт в рамках трансакционного анализа Берна?
5. Предложите стратегии «увертывания», «отражения» при возникновении коммуникативного конфликта с инвективной личностью.
6. Опишите, к какому типу стратегий языковых личностей относите вы себя.
7. На каком основании выделяют уровни коммуникативной компетенции языковых личностей?
8. Рассмотрите жанры, в которых может проявляться конф-ликтно-манипуляторский подтип речевого поведения.
9. Приведите примеры разных тактик внутрижанрового поведения.
10.Не все языковые личности владеют всеми речевыми жанрами, а какие? В какой степени? Какими жанрами чаще всего владеют? Докажите свою точку зрения.
АТГТёГёОаёиГау ёёоабаобба
1. Долинин, К.А. Интерпретация текста / К.А. Долинин. - М., 1985.
2. Ейгер, Г.В. Язык и личность / Г.В. Ейгер, И.А. Раппорт. -Харьков, 1991.
3. Ермакова, О.П. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) / О.П. Ермакова, Е.А. Земская // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. - М., 1993. - С. 36-64.
4. Жельвис, В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия / В.И. Жельвис. - Ярославль, 1 990.
5. Сорокин, Ю.А. Этническая конфликтология / Ю.А. Сорокин. - М., 1994.
Аёааа 16. ААГААВШЁ АЙТАеО ГЙЁ0 1ЁЁГААЁЙОЁЕЁ
1. Понятие о гендере. Методология тендерного анализа.
2. Проявление гендерного фактора в речевом поведении носителей русского языка.
1. ГТГуоёа Т ааГааба. ТаоТаТёТаёу ааГаабГТаТ
аГаёёда
В последние десятилетия в психолингвистике формируются и интенсивно развиваются новые направления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. Особое место в психолингвистических направлениях, доминирующей тенденцией которых является ориентация на человека, занимают гендерные исследования. В центре их внимания находятся культурные и социальные факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах - все то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры.
Под гендером мы понимаем социальный, психологический и культурно-символический аспекты пола (в отличие от биологической характеристики пола), в которых содержатся неявные ценностные ориентации и установки, воздействующие на роли и поведение женщин и мужчин.
Гендер не является лингвистической категорией, но его содержание может быть раскрыто путем анализа структур языка, элементов языковой системы, анализа речевого поведения женщин и мужчин, что объясняет востребованность лингвистической компетенции для изучения культурной репрезентации пола.
Гендерный анализ языка обращен к ментальным процессам мужчин и женщин - участников коммуникации. Гендерный анализ языка как метод исследования позволяет выявить и описать различия в тактике и стратегии порождения и понимания речи, в усвоении языковых фактов, в оценке языковых явлений мужчинами и женщинами - носителями определенного языка.
Возникновение и развитие гендерного анализа языка соответствовало целям феминистской лингвистики перевести анализ с биологического уровня пола на социокультурный. Впоследствии понятие гендерного анализа было распространено на все виды изучения проблемы языка и гендера.
Предметом исследования является языковое сознание мужчин и женщин - носителей изучаемого языка.
Материал для исследования набирается путем сплошной выборки лексических и фразеологических единиц, прецедентных текстов из словарей, сборников пословиц и поговорок, текстов художественной литературы, средств массовой информации, писем наивных носителей языка, а также материал может быть получен в результате ассоциативных экспериментов (свободного или направленного).
Гендерный анализ языка как метод исследования призван решить следующие задачи: доказательность взаимосвязи языка и фактора пола; фиксацию точек зрения мужчин и женщин на языковые факты; исследование языкового поведения мужчин и женщин в одно-и разнополых группах; использование языка в коммуникативных целях, и в частности речевое поведение как процесс выбора оптимального варианта для построения высказывания, характерного для мужчин или для женщин. При этом выявляется сам механизм отбора вариантов, значимых для каждого из полов, устанавливаются критерии, лежащие в основе выбора.
С помощью гендерного анализа можно описать модели языковой картины мира мужчин и женщин, показать корреляцию, дифференциацию полученных моделей в широком социокультурном контексте.
Наиболее эффективно используются такие методы исследования гендерного фактора в речевом поведении носителей языка, как метод наблюдения над устной и письменной речью мужчин и женщин (Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.И. Розанова, В.И. Жель-вис, М.В. Ливанова, Т.М. Цурцилина, Ю.С. Степанов, А.А. Вейлерт, В.М. Алпатов, Е.И. Гапова, А.В. Кирилина и др.), психолингвистический эксперимент (Е.И. Горошко, Т.Б. Крючкова, Ю.К. Стрелков, Н.В. Бардина), ассоциативный эксперимент (М.И. Конюшкевич, Т.Б. Крючкова), метод концептуального анализа (В.А. Маслова, А.В. Кирилина, И.Г. Овчинникова, В. Шаклеин).
2. ГбТуаёаГёа ааГаабмаТ баёоТба а ба-е-ааТТ ГТааааГёё ГТПёоаёаё ббппёТаТ удиёа
Языковые средства, которыми пользуются оба пола для построения текста (вслед за Ю.Н. Карауловым текст мы понимаем широко - как дискурс, или дискурсивные практики), отличаются разнообразием и характеризуют особенности мужского и женского речевого поведения.
Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, Н.И. Розановой было отмечено, что женской эмоциональной речи свойственна просодическая эксплицитность, тогда как для мужчин характерна эксплицит-ность лексическая. Женщины в своей речи широко используют такие просодические средства, как придыхание, лабиализация, назализация и пр.
Кроме того, мужчины и женщины, имея разные сферы деятельности, в том числе разные увлечения, имеют излюбленную тематику бесед (женщины - мода, кулинария, дети; мужчины - спорт, техника, политика), что влияет на знание и употребление ими разных групп лексики. В мужской речи, по сравнению с женской, обнаруживается более сильное влияние фактора «профессия»; мужской речи свойственна тенденция к использованию экспрессивных, обычно стилистически сниженных средств; женскую речь отличает более высокая концентрация эмоционально-оценочных слов и конструкций.
Исследования В.И. Жельвиса показали, что «там, где мужчины прибегают к очень резким и вульгарным инвективам, женщины, как правило, предпочитают гораздо более мягкие обороты или внешне очень скромно звучащие междометия».
В области грамматики текста были сделаны следующие наблюдения:
- Т. Б. Крючковой: женщины употребляют больше местоимений, частиц, существительных, чем мужчины;
- Ю. К. Стрелковым: «Мужчины чаще используют конкретные имена качества, ограниченные во времени имена состояния, женщины, наоборот, неопределенные, растянутые во времени, эмоционально насыщенные имена качества и состояния»;
- Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, Н.И. Розановой: 1) женщины, по сравнению с мужчинами, более склонны к употреблению междометий; 2) типично женскими являются конструкции с местоимениями такой, так, какой, отмеченные как положительной, так и отрицательной коннотацией; 3) для выражения положительной оценки женщины широко используют экспрессивные синонимы прилагательного хороший (чудный, прелестный, великолепный, замечательный, дивный, превосходный). Типично женскими являются выражения отрицательной оценки существительными кошмар! ужас! и выражение сильной эмоциональной реакции (удивления, негодования) наречиями ясно, ясненько.
 2015-08-21
2015-08-21 982
982








