1 В. Куренной здесь имеет в виду работы С. Жижека и сборники статей типа "Матрица и философия" и "Симпсоны и философия".
2 Точно подмечены Т. Г. Щедриной трудности в работе с философскими фрагментами, черновиками, рукописями: ответственность исследователя при этом сродни авторской, ошибки неверного ощущения или непонимания контекста искажают смысл не только данной публикации-реконструкции, но и всего творчества автора (см.: [Щедрина 2008, 134]).
3 Чужой, по Вальденфельсу, "а-топичен", но из моего мира неустраним, так что я не могу не ответить на его присутствие как на вызов. В этом смысле можно сказать, что должное не существует, но как модус мышления оно есть всегда, о нем нельзя "не знать", можно только не уметь или не желать о нем говорить.
стр. 114
Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх
Автор: Д. В. БУГАЙ В статье предлагается анализ проблемы и понятия справедливости (dikaion, dikaiosyne) в первой книге платоновского "Государства". Беседа Сократа с Кефалом и Полемархом выявила важные черты, характерные для платоновской концепции справедливости. Показана связь постановки проблемы справедливости в "Государстве" с вопросом о смысле жизни, определено формальное и содержательное значение критики Сократом определения Полемарха, особый статус справедливости и тесная связь понятия справедливости и понятия блага. The article deals with the concept of justice in the first book of Plato's Republic. Rejecting the myth of the first book's separate edition I try to elucidate the significance of the Cephalus' and Polemarchus' episodes in the dialogue. I argue against the Julia Annas' thesis of the Cephalus' 'moral complacency' and try to show his rather positive character in Plato's view. The main points discussed in this paper are the importance of the question 'how to live' for the discussion on justice in this dialogue, the concept of the 'due' in the Polemarchus' definition and the connecting links between the justice and the good. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: греческая философия, Платон, Сократ, философский диалог, "Государство", справедливость, этическая теория. KEY WORDS: Greek philosophy, Plato, Socrates, philosophical dialogue, Plato's Republic, justice, ethical theory. Первая книга "Государства" Платона сильно отличается от последующих. Она больше всего напоминает сократический диалог, где обсуждается какая-либо добродетель. В таких диалогах обычно собеседники Сократа высказываются о каком-либо всем известном моральном понятии, после чего вместе Сократом начинают исследовать его, и в итоге первоначальное определение оказывается неудовлетворительным. Ряд неудачных попыток определения приводит к апории, к признанию собеседника, что он ничего не знает о том, что такое храбрость, благочестие или благоразумие. Формально в первой книге "Государства" перед нами такой диалог, в котором Кефал, Полемарх и Фрасимах пытаются
стр. 115 определить справедливость, ни одно из определений не выдерживает проверки, и в конце концов сам Сократ признает, что искомого знания о том, что такое справедливость, так и не было достигнуто. Эти черты, общие у первой книги "Государства" с другими "сократическими" или "апоретическими" диалогами Платона, наряду со стилистическими особенностями языка первой книги, часто приводили и приводят к утверждению, что эта книга вначале существовала отдельно, как самостоятельный диалог. Впервые эту гипотезу высказал К. Ф. Германн в 1839 г. В 1895 г. Ф. Дюммлер окрестил первую книгу "Государства" "Фрасимахом", по имени главного противника Сократа в этом диалоге2. Виламовиц предположил, что "Фрасимах" был задуман как диалог о справедливости, аналогичный "Лахету" (о храбрости), "Хармиду" (о благоразумии), "Эвтифрону" (о благочестии), но был в итоге на двадцать лет оставлен незаконченным, а вместо него был написан более резкий и эмоциональный "Горгий" [Виламовиц 1920 I, 209 - 211]. Фридлендер увидел в небольшом и, вероятно, подложном "Клитофонте", своего рода продолжение "Фрасимаха", реакцию на него, но не на все "Государство" целиком [Фридлендер 1964, 45 - 46]. Это, наряду с другими аргументами, должно было доказывать отдельное существование "Фрасимаха" и подкрепить ощущение его типологической близости с "ранними диалогами". Поэтому в книгах Виламовица и Фридлендера, составивших целую эпоху в платоноведении XX в., первая книга рассматривалась отдельно от прочих девяти книг "Государства". Однако гипотеза отдельного издания "Фрасимаха" не является ни доказанной, ни необходимой. Помимо весьма ненадежного умозаключения от "Клитофонта", каких-либо сведений об отдельном издании первой книги нет. Свидетельство Авла Геллия о том, что "Киропедия" Ксенофонта была написана в ответ на вышедшие первыми в свет "почти две книги" платоновского "Государства"3, само по себе ненадежно и в любом случае ничего не говорит об отдельном издании нашей первой книги4. Данные стилометрии действительно показывают, что язык первой книги отличается от языка последующих девяти книг. Но эти различия во многом объясняются полемическим и диалектическим характером первой книги, тогда как последующие написаны в более спокойном стиле, соответствующем "догматическому" содержанию беседы5. К тому же, если исходить из статистики К. Риттера, то первая книга "Государства" имеет 9 случаев "позднего" стиля, тогда как "Кратил" - 8, "Федон" - 7, вторая книга "Государства" - 10, "Парменид" - 17, "Федр" - 21, а "Теэтет" -25; см.: [Кан 1993, 134]. Таким образом, даже по стилометрическим основаниям первая книга не сильно отличается от "средних" диалогов. Ее сходство с другими "сократическими" диалогами говорит лишь о том, что Платон при необходимости мог написать еще один "сократический" диалог в качестве введения к своему новому труду. В начале второй книги Сократ как раз и называет только что закончившуюся беседу "проэмием", прологом
Виламовиц справедливо отметил принципиально новый характер "Государства" не только в платоновском творчестве, но и в греческой литературе того времени [Виламовиц 1920 I, 393]. Платон впервые тогда создал литературное произведение, которое не могло быть прочитано за один раз, но предполагало совсем другой опыт вхождения в него, перечитывание и продумывание в целом. Тем более было важным дать читателю не агрегат, изготовленный из разрозненных отрывков разных лет, но как можно более гармоничное целое. В так называемом диалоге "Фрасимах" слишком много моментов, которые указывают на темы и проблемы остальных частей "Государства", чтобы можно было объяснить это случайностью7. Даже если Платоном и был некогда создан набросок первой книги как самостоятельный диалог, нет сомнения, что, готовя "Государство", он так изменил его, чтобы этот диалог полностью соответствовал своей новой функции - быть сократическим введением в беседу о справедливости8. Поэтому, например, Ч. Кан справедливо писал о пролептической композиции "Государства", когда в предшествующих книгах предвосхищаются темы и сюжеты книг последующих [Кан 1993]. стр. 116 Итак, первая книга "Государства" начинается с рассказа Сократа неизвестному собеседнику о том, как он вместе с Главконом ходил вчера в Пирей на праздник Бендидий и как Полемарх с Адимантом шутливыми угрозами упросили их остаться и привели в дом Кефала, отца Полемарха, оратора Лисия и Эвтидема. Беседой с Кефалом начинается основное "логическое" действие диалога. Кефал Если у старых комментаторов (Неттлшип, Фридлендер) образ Кефала вызывал симпатию - Фридлендер называет его "естественной пра-формой справедливости" [Фридлендер 1964, 48] - то в конце XX в. отношение к нему порой оказывалось более критичным, и посвященные ему страницы, например, в комментарии Дж. Эннес выглядят как обличение старого купца, главной чертой которого оказывается "моральное самодовольство" [Эннес 1982, 18 - 23]. Кефал оказывается не только ограниченным человеком, но лицемером и даже просто обманщиком. Его жизнь посвящена стяжательству, он обожает свое богатство, притворяется, что любит рассуждения, но лишь в качестве пустого досуга для стариков. Чтобы не отвечать на коварные вопросы Сократа, он, обманывая всех, уходит совершать жертвоприношение, которое он уже давно совершил. Платон, таким образом, начинает с резкого контраста между Сократом и его искренней любовью к морали и философии и самодовольным богатеем, который лишь использует мораль и справедливость для достижения своих корыстных целей на этом и том свете. Такая характеристика, на мой взгляд, может серьезно исказить не только отношение Платона к первому собеседнику Сократа, но и создать сразу неверное отношение к тому, что Платон хочет сказать в "Государстве".
Отметим, что разговор в "Государстве" начинается не с отвлеченной дискуссии об определении понятия справедливости или о правильной форме совершенного государства, но с темы старости. Сократ спрашивает Кефала, уже глубокого старика, как он переносит старость, тяжела ли она ему. Этот путь всем предстоит пройти, что же может о нем сказать человек опытный? (328 е) Старость появляется здесь как время, которое подводит черту подо всей жизнью, заставляет человека отнестись к жизни как к целому. Так что вопрос Сократа, при всей его изящной светскости и полной уместности, ведет к вопросу о жизни в целом. В ответе Кефала звучит вовсе не самодовольство и не страсть к стяжательству. Он вообще сперва ничего не говорит о своем богатстве. То, что старость - это время, когда телесные удовольствия перестали иметь значение, для него не повод для жалоб, а скорее, желанное избавление от "наводящего безумие и дикого владыки" (329 с), от вожделений и страстей плоти, которые уступают место "удовольствиям и вожделениям, связанным с речами" (328 d). Старость приносит мир и свободу Причиной недовольства старостью, жизнью и собой Кефал называет характер стр. 117 к старости тоже резко отличается от традиционного и общепринятого, см.: [Эдэм 1902]. Особое значение имеют его слова о "характере", в которых предвосхищено основное учение "Государства" о правильном строе души как основе счастья. Его "философия богатства" не провозглашает богатство самоцелью; в этом Кефал "Государства" резко отличается, например, от того богача, который появляется вместе с врачом и тренером в диалоге "Горгий" (452 b-d). Богатство желательно для счастья, но оно не сделает счастливым того, у кого испорчен характер. Идеал счастья для Кефала - "быть легким для себя самого" Как раз в одной из речей Кефала впервые появляется тема справедливости. Мысль о близкой смерти приводит того, кто знает за собой множество преступлений, к страху перед загробными наказаниями, а тот, кто провел свою жизнь "справедливо и благочестиво" Конечно, Кефал - это не Сократ и не идеальный философ-правитель "Государства": его нравственное мировоззрение основано на идеалах ушедшего, причем трагически ушедшего времени Афин V в. Его опыт и убеждения основаны не на логической непротиворечивости и точности определения понятий, а на поэтических формулах и примерах великих мужей прошлого. Он не может ничего доказать, но только показать собственным примером, что такое справедливость и благочестие. Поэтому слова, которыми он выражает свой моральный опыт, взятые сами по себе, вне целого его жизни, могут дать основание, - особенно после новой, софистической школы мысли, - для совсем других мысли и действия. По замечанию Аристотеля в "Никомаховой этике" (1143 b 11), лишенный доказательства опыт стариков, выраженный в простом слове, очень важен для философа, но не достаточен. Каково значение этого эпизода в "Государстве" как целом? Платон поднимает проблему справедливости в контексте самых важных вопросов человеческой жизни. Темы жизни в целом, ее смысла, вожделения плоти, противопоставленные удовольствиям мысли и рассуждения, характер человека как подлинная основа его счастья, значение богатства как всего лишь средства для достижения счастья, страх смерти и загробных наказаний и лекарства от этого страха - все эти темы указывают направление, в котором дальше справедливость будет осмысливаться в "Государстве". стр. 118 Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
 Сейчас читают про:
|
 2015-04-06
2015-04-06 514
514

 357 а). И, как неоднократно замечалось6, в композиции "Государства" первая книга имеет свой аналог в последней, десятой, которая также стоит особняком и завершает весь диалог рассказом о судьбе души в Аиде, о чем так заботился Кефал в первой книге.
357 а). И, как неоднократно замечалось6, в композиции "Государства" первая книга имеет свой аналог в последней, десятой, которая также стоит особняком и завершает весь диалог рассказом о судьбе души в Аиде, о чем так заботился Кефал в первой книге.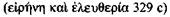 в душу, и в этом отношении ее действие, как правильно отметил Фридлендер [Фридлендер 1964, 49], напоминает действие философии в "Федоне", которая приносит в душу покой ("Федон",
в душу, и в этом отношении ее действие, как правильно отметил Фридлендер [Фридлендер 1964, 49], напоминает действие философии в "Федоне", которая приносит в душу покой ("Федон",  84 а). Платоновский Кефал вовсе не предается стяжанию для удовлетворения своих низменных, телесных вожделений. В своей "философии вожделения" он, как справедливо заметил Т. Ирвин, близок к позиции Сократа в "Горгии" [Ирвин 1995, 170]. Удовольствия от секса, еды и напитков, о которых здесь идет речь, в четвертой книге будут определены как характерные черты "вожделеющей" части души
84 а). Платоновский Кефал вовсе не предается стяжанию для удовлетворения своих низменных, телесных вожделений. В своей "философии вожделения" он, как справедливо заметил Т. Ирвин, близок к позиции Сократа в "Горгии" [Ирвин 1995, 170]. Удовольствия от секса, еды и напитков, о которых здесь идет речь, в четвертой книге будут определены как характерные черты "вожделеющей" части души  а описание сексуального удовольствия как "наводящего безумие и дикого владыки" по языку и мысли предвосхищает знаменитый "эрос тирана" в девятой книге (573 е) [Неттлшип 1897, 15; Кан 1993, 136 - 137].
а описание сексуального удовольствия как "наводящего безумие и дикого владыки" по языку и мысли предвосхищает знаменитый "эрос тирана" в девятой книге (573 е) [Неттлшип 1897, 15; Кан 1993, 136 - 137]. человека, от которого зависит счастье и в юности и в старости. "Если люди будут умеренны и довольны собой9, то и старость им тяжела будет лишь в меру. Если же они таковыми, Сократ, не окажутся, то и старость и юность такому человеку будут в тягость" (329 d). Кефал противопоставлен толпе других стариков (329 а, е), его философия "характера" и идеал "порядочного человека"
человека, от которого зависит счастье и в юности и в старости. "Если люди будут умеренны и довольны собой9, то и старость им тяжела будет лишь в меру. Если же они таковыми, Сократ, не окажутся, то и старость и юность такому человеку будут в тягость" (329 d). Кефал противопоставлен толпе других стариков (329 а, е), его философия "характера" и идеал "порядочного человека"  пиетет перед Софоклом и Пиндаром делают его не типичным представителем стяжателей, но исключением из правила. Его отношение
пиетет перед Софоклом и Пиндаром делают его не типичным представителем стяжателей, но исключением из правила. Его отношение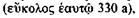 сохранять внутренний мир, не терзаясь и не страдая от желания все новых и новых удовольствий. Сократ подмечает, что Кефал не очень любит богатство, не привязан к нему
сохранять внутренний мир, не терзаясь и не страдая от желания все новых и новых удовольствий. Сократ подмечает, что Кефал не очень любит богатство, не привязан к нему 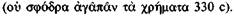 Он сам не считает себя настоящим стяжателем, каким был его дед. Его ответ на вопрос Сократа, в чем наибольшая польза
Он сам не считает себя настоящим стяжателем, каким был его дед. Его ответ на вопрос Сократа, в чем наибольшая польза 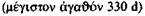 от богатства, звучит и вовсе парадоксально: в том, чтобы иметь возможность перед смертью расплатиться со всеми долгами перед богами и людьми. Вряд ли такой план использования накопленного имущества можно назвать типичным как для богачей того времени, так и для нынешних. Дж. Эннес и Т. Ирвин ставят Кефалу в вину то, что "справедливость для него лишь способ обеспечить спокойствие духа перед лицом смерти", и что фактически богатство лучше может это сделать, нежели справедливость [Ирвин 1995, 170]. Довольно странный упрек человеку, которого спросили, в чем же состоит главная польза от богатства, и который считает, что богатство может принести пользу только человеку порядочному
от богатства, звучит и вовсе парадоксально: в том, чтобы иметь возможность перед смертью расплатиться со всеми долгами перед богами и людьми. Вряд ли такой план использования накопленного имущества можно назвать типичным как для богачей того времени, так и для нынешних. Дж. Эннес и Т. Ирвин ставят Кефалу в вину то, что "справедливость для него лишь способ обеспечить спокойствие духа перед лицом смерти", и что фактически богатство лучше может это сделать, нежели справедливость [Ирвин 1995, 170]. Довольно странный упрек человеку, которого спросили, в чем же состоит главная польза от богатства, и который считает, что богатство может принести пользу только человеку порядочному  В отличие от богача и стяжателя в "Горгий", для которого богатство и есть высшее благо
В отличие от богача и стяжателя в "Горгий", для которого богатство и есть высшее благо 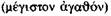 человеческой жизни, Кефал считает само богатство лишь средством для достижения другой цели - душевного спокойствия.
человеческой жизни, Кефал считает само богатство лишь средством для достижения другой цели - душевного спокойствия.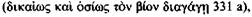 получает сладкую надежду. Богатство может помочь расплатиться с долгами только тому, кто совершил свои проступки невольно
получает сладкую надежду. Богатство может помочь расплатиться с долгами только тому, кто совершил свои проступки невольно  331 b). Речь вовсе здесь не идет о лицемерном замысле и тонком расчете безнравственного корыстолюбца, рассчитывающего искупить свои преступления взносами на храмы. Богатство для Кефала - своего рода подстраховка, которая может что-то дать только тому, кто вел справедливую и благочестивую жизнь, но, как это свойственно человеку, мог обидеть кого-то, не желая этого и не строя на этом главную линию своей жизни. Видеть в Кефале Тартюфа конца V в. до н.э. не стоит. Как более века назад заметил Неттлшип, "В случае с Кефалом нравственность подытожена в формуле "быть правдивым в словах и делах, платить долги богам и людям", и если понимать ее достаточно широко и глубоко, она говорит все, что нужно сказать" [Неттлшип 1897, 16].
331 b). Речь вовсе здесь не идет о лицемерном замысле и тонком расчете безнравственного корыстолюбца, рассчитывающего искупить свои преступления взносами на храмы. Богатство для Кефала - своего рода подстраховка, которая может что-то дать только тому, кто вел справедливую и благочестивую жизнь, но, как это свойственно человеку, мог обидеть кого-то, не желая этого и не строя на этом главную линию своей жизни. Видеть в Кефале Тартюфа конца V в. до н.э. не стоит. Как более века назад заметил Неттлшип, "В случае с Кефалом нравственность подытожена в формуле "быть правдивым в словах и делах, платить долги богам и людям", и если понимать ее достаточно широко и глубоко, она говорит все, что нужно сказать" [Неттлшип 1897, 16].





