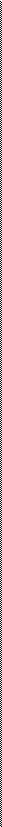 фиксирующие результаты единичного наблюдения и получившие название «протокольных предложений», «данных», «констатации» и т. д. В этой связи возникают следующие затруднения: 1) для проверки бесконечного (или неограниченно большого) числа следствий необходимо бесконечное (неограниченно большое) число наблюдений; 2) остается неясным, может лп единичное наблюдение, несущее в себе случайную информацию, подтверждать или опровергать соответствующее ему следствие из теории; 3) бесконечное или достаточно большое множество предложений, описывающих результаты единичных актов наблюдения, не может быть включено в систему предложений, образующих науч. знание, ибо последнее для любого выбранного момента времени конечно.
фиксирующие результаты единичного наблюдения и получившие название «протокольных предложений», «данных», «констатации» и т. д. В этой связи возникают следующие затруднения: 1) для проверки бесконечного (или неограниченно большого) числа следствий необходимо бесконечное (неограниченно большое) число наблюдений; 2) остается неясным, может лп единичное наблюдение, несущее в себе случайную информацию, подтверждать или опровергать соответствующее ему следствие из теории; 3) бесконечное или достаточно большое множество предложений, описывающих результаты единичных актов наблюдения, не может быть включено в систему предложений, образующих науч. знание, ибо последнее для любого выбранного момента времени конечно.
Стремление преодолеть эти затруднения привело к тщательному анализу эмпирнч. знания, методов его построения и форм языковой фиксации. Было показано, что непосредств. данные фиксируют и учитывают влияние неск. факторов, в т. ч. условия наблюдения (у), случайные состояния приборов или средств наблюдения (г), специфику объекта (х) и состояние наблюдателя (и). Т. о., даже самый простой одноместный предикат наблюдения (Р), обычно рассматриваемый как выражение знания о свойствах х, оказывается на деле сложным отношением, к-рое может быть выражено в форме: «с т. зр. и, пользующегося в условиях у аппаратом наблюдения z, x обладает таким-то свойством», т. е. Р(х, у, и, z). Выделение из этой сложной логич. структуры эмппрнч. знания Р'(х), элиминирующего информацию об остальных факторах наблюдения (у, и, z), представляет сложную процедуру. Она предполагает, во-первых, ряд логич. операций, связанных с выявлением условий истинности Р'(х); во-вторых, определение числа вариантов для различных состояний факторов наблюдения {(Ух, у2, •••). (мх, ы2,...), (zj, z2,...)}, позволяющее путем последо-ват. сопоставления и статистнч. обработки выделить информацию об объекте х в максимально «чистом» виде; в-третьих, создание ллн подбор адекватного ста-тистич. аппарата. При этом между предикатами, формулирующими результаты непосредств. наблюдения, п предикатами, возникающими вследствие применения определенных логич. и статистнч. приемов, могут существовать более или менее заметные различия. Так, последовательность данных d, фиксирующих непосредств. результаты наблюдения за положением небесного тела в нек-ром интервале с дискретными значениями времени t0, tt,..., tk, может иметь вид: «в момент t{ небесное тело х имело координаты X, Y, Z» (где 0<is=;ft). Предложение, выступающее в виде статистнч. резюме последовательности dx, rf2,..., dk, дающее знание о пространств, характеристике х в интервале &t = tk — 10, может иметь вид: «траектория х в интервале At есть А», где А — аналитнч. или графич. описание траектории. Предложение последнего вида представляет эмпнрич. Ф. науки (/).
|
|
|
|
|
|
Выделение в системе эмпирич. знания разных компонентов — непосредственных «данных» и «Ф.» — обнаруживает довольно сложную структуру этого знания. В частности, при невозможности повторного или многократного наблюдения (как в эпизоде с Тунгусским метеоритом) единичное d может выступать в роли Ф. (т. н. квазпфакт). Однако пнформац. значимость и достоверность содержащегося в нем эмпирич. знания позволяет строить гипотезы с весьма небольшой вероятностной оценкой или дает невысокую степень подтверждения для соответствующих теорий. Т. о., наиболее существ, различия данных и Ф. касаются их логич. формы, способов получения (прямое наблюдение или логико-статистич. обработка) и гносеологнч. функции. Последняя наиболее тесно связана с проблемой эмпирич. значения теории. Если.?!, S2,...,Sn —
предложения теории Т, а ег, е2,..., ек — конечные следствия, полученные из Т путем дедукции, то эмпирич. проверка Т достигается не попарным сопоставлением конечных следствий е и непосредственных данных d, а путем сравнения каждого из е с особыми эмпирич. предложениями fx, /.,,..., fk, возникающими в ^результате указ. переработки непосредственных данных.
Чтобы Ф. могли выполнять роль предложений, участвующих в проверке эмпирич. значения Sl7 S2,..., Sn, они должны отвечать двум требованиям: 1) каждое /,-, сопоставляемое с нек-рым е,-, полученным из Т, должно быть выражено в тех же предикатах наблюдения или диспозицпонных предикатах, в каких выражено е,-; 2) оценка истинности /,■ должна быть идентична значению истинности е,-. Т. к. большинство естеств.-науч. теорий (в т. ч. теорий матем. естествознания) работает на основе двузначной логики, то второе требование не может быть выполнено полностью, поскольку для любого е,- значения истинности дискретны п фиксированы, а соответствующие значения для /,- — статистнч. резюме непосредственных данных — принимают континуум значений в интервале 0,1. Поэтому вводится особый параметр — дефект истинности з(0«£;э<;1), и принимается условие, что значение истинности /(- идентично значению <?,-, если истинностное значение Ф.(1 — э) отличается от 1 не более, чем на е (т. н. оценка дефекта истинности). Величина е не зависит от требований теории Т. При наличии адекватного статистнч. аппарата выполнение последнего условия не только позволяет удовлетворить требованию (2), но п определяет размеры совокупности rfx, d2,..., необходимой для получения достаточно правдоподобного Ф. и называемой полем Ф. Для теорий, следствия из к-рых содержат утверждения относительно бесконечных совокупностей феноменов, ситуаций или процессов, поля Ф. представляют собой нек-рые конечные, но статистически вполне представит, совокупности, выбираемые по особым правилам и замещающие бесконечные системы. Принципиально задание всех возможных полей означало бы возможность получить все интересующее нас знание о тех или иных объектах на чисто эмпирич. уровне. Неосуществимость этого требования показывает не только необходимость теории, но и несводимость ее к эмпирич. знанию ни на уровне Ф., ни на уровне непосредств. данных. Обнаружение этого обстоятельства существ, образом демонстрирует несостоятельность неопозитивистской логики науки.
Лит.: Р а к и т о в А. И., Статистнч. интерпретация Ф.
и роль статистнч. методов в построении эмпирич. знания,
в кн.: Проблемы логики науч. познания, М., 1964; Косо
лапое В. В., Гносеологччна природа наукового факту,
К., 1964; Goodman N., The structure of appearance,
Indianapolis, 1951; Hacking Ian, Logic of statistical
inference, L., 1965; Leinfellner W., Struktur und Auf-
bau wissenschaftlicher Theorien, W.—Wiirzburg, 1965; Sal
mon W. C, The foundations of scientific inference, Pitts
burg, 1967. А. Ракитов. Москва,
|
|
|
ФАКТИЧЕСКАЯ ИСТИННОСТЬ (в логике)-, истинность предложения (суждения, высказывания), обусловленная, в отличие от т. н. логич. истинности, содержанием этого предложения. Иначе говоря, предложение является фактически истинным, когда его истинность зависит от значений истинности составляющих его элементарных (атомарных) предложений. Приписывание же определ. значений истинности этим последним означает, что рассматриваемому предложению дано определ. истолкование (интерпретация), т. е. что ему приписано определ. содержание, к-рое оно обозначает. Очевидно, что при ином истолковании элементарных предложений в соответствии с принятыми определениями логич. операций, входящих в рассматриваемое предложение, его значение истинности может измениться (предложение может стать
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ—ФАКТОРОВ ТЕОРИЯ
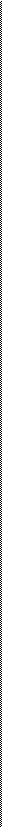 фактически ложным). В этом смысле говорят, что предложение зависит от фактов и является фактическим или синтетическим (в отличие от логич. пли аналптич. предложений, см. Тождественная истинность).
фактически ложным). В этом смысле говорят, что предложение зависит от фактов и является фактическим или синтетическим (в отличие от логич. пли аналптич. предложений, см. Тождественная истинность).
Согласно введенной Карнапом терминологии, фактически истинное предложение есть предложение, выполнимое не во всех возможных описаниях состояния (моделях по Иемени), а лишь в нек-рых из них (см. Логическая истинность). Ясно, что отрицание фактически истинного предложения есть фактически ложное предложение и наоборот. Понимание Ф. и. предложения в смысле Карнапа (оно является нек-рым уточнением лейбницевского представления о Ф. и.) является семантическим (см. Логическая семантика, Семантгта в логике). По существу оно является теоретико-множестЕенным пониманием, т. к. использует понятие множества всех возможных описаний состояния (моделей) для языка, к-рому принадлежит рассматриваемое предложение, и, очевидно, является неэффективным (см. Алгоритм).
Пусть L — нек-рый формализованный язык, в к-ром выражается (формализуется) какая-нибудь содержательная теория Е. Пусть, далее, Р — множество всех теорем теории Е, доказуемых в L. Если L является полным языком (см. Полнота), т. е. если множество всех истинных предложений теории Е совпадает с Р, то можно считать, что понятие фактической и логической истинности предложений теории Е совпадают относительно языка L. Совпадение логической и Ф. и., однако, не имеет места в случае неполноты языка L.
|
|
|
Следует отметить, что теоремы языка L подразделяются на собственно логические (на теоремы логики высказываний и логики предикатов) и на теоремы, полученные из содержательных аксиом L с помощью чисто логич. теорем и правил логики. Теоремы чистой логики, собственно, и можно принимать как логически истинные, в отличие от «фактических» («содержательных») теорем L, полученных с помощью логических средств L из содержательных аксиом теории Е, содержащихся в L.
Однако такое синтаксическое (см. Синтаксис в логике) понимание Ф. и. существенно предполагает выделение «чистой логики». Определения же чистой логики могут быть различными. Напр., под чистой логикой можно понимать либо исчисление высказываний (см. Логика высказываний), либо предикатов исчисление первого порядка без равенства (или же с равенством), либо исчисление предикатов второго порядка без каких-либо присоединенных аксиом свертывания и т. п. Отсюда следует относительность синтаксич. понимания Ф. и. предложения в формализованном языке. Имеются попытки формализовать различение фактич. и логич. истинности в рамках модальной логики.
Поскольку Ф. и. (соответственно ложность) предложения зависит от значений истинности составляющих его элементарных (атомарных) предложений, то для установления Ф. и. (ложности) предложений требуется иметь точные описания способов приписывания значений истинности элементарным (атомарным) предикатам, входящим в соответствующие элементарные предложения. Анализ же естеств.-науч. языка дает многочисл. примеры различных трудностей при определении значений истинности элементарных предикатов. В связи с этим достаточно упомянуть о существовании неопределенностных оценок предложений в квантовой механике, об употреблении в науч. рассуждении предложений с различными степенями правдоподобности, а также предикатов, зависящих от времени и т.д. Возникают трудности приписывания значений истинности и сложному предложению, содержащему диспозиционалъные предикаты. Рассмотрение нек-рых из этих трудностей в рамках формальной семиотики может быть осуществлено посредством логик с более чем двумя значениями истинности (см. Многозначная логика).
Лит.: Б оч в ар Д. А., К вопросу о парадоксах математической логики и теории множеств, «Математический сборник», 1944, т. 15, вып. 3; К а р н а п Р., Значение и необходимость, пер. с англ., М., 1959; Carnap R., Testability and meaning, «Philosophy of Science», 1936, v. 3, Jfi 4; 1937, v. 4, № 1; его же, Introduction to semantics, Camb. (Mass.), 1942; Margenau H., Nature of physical reality, N. Y., 1950; Kemeny I., A new approach to semantics, «The Journal ot Symbolic Logic», 1956, v. 21, № 1—2; Rosser I. B. and Turquette A. R., Many-valued logics, Amst., 1952; Reichenbach H., Nomological statements and admissible operations, N. Y., 1954; Turquette A. R., Modaiity, minimality and many-valuedness, «Acta Philosophica Fennica», 1963, fasc. 16; Hanson W. II., On formalizing the distinction between logical and factual truth, «The Journal of Symbolic Logic»,,1966, v. 31, Ki З. В. Финн. Москва.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ (ф а к т о р и а л ь н ы й анализ) — один пз методов математич. обработки дан-
ных исследования массовых совокупностей. При Ф. а. эти данные сводятся в корреляционные матрицы, на к-рых определяются детерминанты («факторы»), лежащие в основе корреляций между сопоставляемыми переменными, которыми характеризуются элементы совокупности. Созданный первоначально для пепхо-логич. исследований, Ф. а. стал позднее применяться в социологии, биологии, медицине, экономике, а также в физике. Ф. а. в его совр. виде основан на использовании методов матричной алгебры и векторной геометрии; он заключается в сведении путем ряда преобразований квадратной матрицы re-го порядка к прямоугольной матрице с т строк и п столбцов, где п всегда должно быть меньше т. Десятичные числа, стоящие на пересечениях строк со столбцами, представляют собой факторные веса переменных по выделенным факторам, т. е. фактически коэффициенты корреляции между этими переменными л факторами. В наст, время Ф. а. проводится с помощью электронновычислит. машин.
Первая модель факторизации была предложена англ. психологом Спирменом (1904), выдвинувшим представление о существовании в сфере интеллекта генерального фактора (фактор «g») и ряда специфич. факторов («S»), действующих только в пределах данного теста. Холзпнгер ввел би-факторную модель и развил представление о существовании, кроме генерального н специфических, еще и групповых факторов, общих для неск. переменных. Принципиальный пересмотр теории и практики Ф. а. был осуществлен амер. психологом Тёрстоном, к-рый отказался от представлений об обязат. наличии в матрице интеркорре-ляцпй общего фактора и указал на возможность действия в такой матрице набора одних лишь групповых факторов («восприятие», «пространственный», «вербальный» факторы). Развитые на основе этой мульти-факторной модели матем. методы извлечения факторов обладают различной степенью точности и сложности. «Трансформационный метод» финского психолога АмаЕаара позволил связывать данные разных исследований, проведенных в одной и той же области.
Осн. областью применения Ф. а. до сих пор остается сфера способностей — умственных и специальных (музыкальных, математических, двигательных и др.). Методами Ф. а. изучается также структура личности. Сов. психологи применяют технику Ф. а. для изучения структуры свойств нервной системы человека, при исследованиях памяти и т. д. Матем. процедура Ф. а. сама по себе не говорит о содержании и существе выделяемых факторов. Содержат, интерпретация последних основывается на обобщении психологич. или физиологпч. сущности тех переменных, к-рые получили по данному фактору наибольшие факторные веса.
Лит.: Н е б ы л и ц ы н В. Д., Совр. состояние Ф. а., «Вопр. психологии», 1960, М4; Т е п л о в Б. М., Простейшие способы Ф. а., в кн.: Типологич. особенности высшей нервной деятельности человека, т. 5, М., 1967; Thurstone L., Vectors of mind, Chi., 1935; его же, The dimensions of temperament, «Psychometrica», 1951, № 16; С a t t e 1 1 R. В., Factor analysis, N.Y., 1952; его же, Personality and motivation structure and measurement, [N.Y.], 1957; E у s e n с k H. J., The structure of human personality, L.— N.Y., 1953; Guilford J. P., The structure of intellect, «Psychol. Bull.», 1956, v. 53, Xi 4; A h m a v a a r a Y., On the unified factor theory of mind, Hels., 1957; Werdelin J., The mathematical ability, Cph., 1958; Harman H. H., Modern factor analysis, Chi., I960; Horst P., Factor analysis of data matrices, N. Y., 1965.
В. Небылицин, А. Медведев. Москва.
ФАКТОРОВ ТЕОРИЯ — термин, традиционно используемый для обозначения социологич. концепций, пытающихся объяснить изменение состояний общества каким-либо явлением, воздействие к-рого признается единств, фактором, определяющим изменение этих состояний, и потому по необходимости абсолютизируется. Гносеологпч. основой таких концепций является
ФАКТОРОВ ТЕОРИЯ—ФАНЬ ЧЖЭНЬ
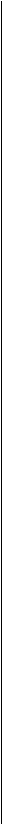 характерная для материализма 17—18 вв. абсолютизация причинности.
характерная для материализма 17—18 вв. абсолютизация причинности.
В истории социальной мысли известно неск. попыток такого объяснения механизма развития общества. К их числу относится географпч., демографич., пси-хологич., в конце 19 в.— технология, и др. виды детерминизма. Однако всякий раз эти попытки приводили к ситуации (к-рую Г. В. Плеханов назвал заколдованным кругом взаимодействия), вызываемой тем, что явление, используемое в качестве фактора, прежде, чем стать причиной,— было следствием (см. «К вопросу о развитии монистич. взгляда на историю», гл. 2).
Для снятия такой ситуации оказалось необходимым причинный подход дополнить системно-структурным и историч. подходами, к-рые были применены марксизмом к самым разным социальным объектам: обществу в целом, капнталистич. формации, семье, гос-ву п др. Эти подходы позволяют «...изобразить весь процесс в целом (а потому также и взаимодействие между его различными сторонами)» (Маркс К. п Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 37). Специфика такого подхода состоит в том, что объект рассматривается как система, изменение состояний к-рой означает ту или иную перестройку мн. элементов его структуры, а не какого-либо одного из них. По отношению к такому подходу однофакторный (причинный) подход может занимать лишь подчиненное положение: рассматривать причинные зависимости внутри системного объекта можно только при сознат. абстрагировании от всей системы связей и понимании того, что выводы, получаемые при изучении причинной пары, нельзя экстраполировать на целое. Энгельс в письмах 90-х гг. резко возражал против попыток интерпретации марксизма как однофакторной концепции, а именно, экономия, детерминизма, противоречащей его и Маркса пониманию историч. процесса (см. также «Нем. идеология», там же, с. 19). Системный подход противостоит не только однофакторному, но и такому многофакторному подходу, при к-ром взаимодействие ряда факторов только постулируется, но они не заданы как элементы структуры. В таком случае имеет место лишь механич. соединение факторов.
Хотя употребление термина Ф. т. вошло в традицию, он является неверным, ибо «претендует» на наличие теории факторного подхода. Однако такая теория (к-рая должна была бы содержать типологию факторов, принципы их выделения и др.) на практике отсутствует. В связи с этим вместо термина Ф.т. логичнее было бы употреблять термин «факторный подход».
Проблема однофакторного или многофакторного подходов возникает не только применительно к глобальному обществу (по отношению к к-рому она активно обсуждалась в конце 19— нач. 20 вв.), но и при изучении локальных объектов, в практике конкретных социальных исследований п гл. обр. при изучении социальных процессов (таких, как миграция населения, текучесть кадров, динамика обществ, мнения и др.), где принципы системного подхода еще не получили широкого развития и где факторный подход в настоящее время широко используется. В простейших случаях методика факторных исследований может основываться на методах установления причинных связей, разработанных в индуктивной логике (метод единственного сходства и др.). Однако необходимо различать практич. использование факторного подхода в эмпирия, исследованиях — с одной стороны, и методологическую проблему соотношения факторного и системно-структурного подходов в науке, возможностей каждого из этих подходов — с другой.
Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., Нем. идеология, Соч., 2 изд., т. 3; Энгельс Ф., Письма 90-х г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Кон И. С, Позитивизм в социологии, Л., 1964; Tima-
scheff N., Sociological theory. Its nature and growth, 3 ed.,
N. Y., 1967. P. Рывкипа. Новосибирск.

|
ФАЛЁС (0ccXt,S) (ок. 625—547 до н. э.) — др.-греч. философ, родоначальник античной и вообще европ. философии и науки, основатель милетской школы. Происходил из г. Мплет (М. Азия). По преданию, Ф. путешествовал по странам Востока, многому научился у египетских жрецов и вавилонских халдеев. Из приписываемых Ф. соч. до нас ничего не дошло. Ф. опирался на отдельные теокосмогони-ческне пдеп-образы Гомера («Илиада», XIV, 246; VIII, 13— 16) и Гесиода («Теогония», 116 — 133; 720—725), но отбросил мифологич. олицетворение явлений и сил природы. Обоснованный Ф. новый взгляд на мир заключался в том, что все многообразие явлений и вещей было сведено им к единой основе (первостпхии пли первоначалу), которой Ф. считал «влажную природу», воду (см. Aristotel, Met. I, 3, 983а 24—983в 30). По Ф., все возникает из воды и в нее же превращается. Ф. развивал мысль об одушевленности (гилозоизм) и божественности первоначала: «мир одушевлен и полон богов» (А 3, 22; ср. А 1,24). Как и для представителей ионийской школы «божественное» для Ф. тождественно с природным (материальным) первоначалом (водой); божеством он называл «то, что не имеет ни начала, ни конца» (А 1-1,36), т. е. беспредельное. Отличая душу от тела, душевную жизнь от процессов природы, Ф., вслед за Гомером, мыслил душу в виде тонкого (эфирного) вещества. Душа как активная (чувствующая) сила и вместе с тем как носитель разумности н справедливости при-частна к божественному (разумному и прекрасному) строю вещей. Ф. использовал достижения др.-вост. науки (египтян, вавилонян и финикинян) и сделал ряд выдающихся открытий: предсказал солнечное затмение, к-рое произошло в 585 до и. э., разделил год на 365 дней (А 1,27) и т. п.
Фрагменты в рус. пер., в кн.: М а к о в е л ь-ский А., Досократики, ч. 1, Каз., 1914, с. 9—24.
Лит.: Остроумов М., Фалес Милетский, «Вера и разум», 1887, № 23; Т р у б е ц к о й С. Н., Метафизика в Древней Греции, М., 1890, с. 151—54; Гомперц Т., Греч, мыслители, пер. с нем., т. 1, СПБ, 1911, с. 39—44; Б л о н с к и й П., Этюды по истории ранней греч. философии, М., 1914; Лосев А. Ф., Очерки антич. символизма и мифологии, т. 1, М., 1930: его ж е, История антич. эстетики, М., 1963, с. 339—43; История философии, т. 1, М., 1940, с. 25—32; Лурье С. Я., Очерки по истории антич. науки, М.— Л., 1947, с. 36—40; Томе о и Д ж., Первые философы, пер. с англ., т. 2, М., 1959, с. 145—58; Михайлова Э. Н., Ч а н ы ш е в А. Н., Ионийская философия, М., 1966, с. 25—50; Kirk G. S., Popper on science and the pre-socratics, «Mind», 1960, v. 69, № 275. Ф. Нессиди. Москва.
ФАНТАЗИЯ (от греч. cpavxaaicx — воображение) -=* необходимый компонент творч. деятельности, психология, содержание к-рого состоит в построении образа или пепхич. модели конечного или промежуточных продуктов деятельности. По своему значению понятие Ф. совпадает с понятием воображения.
ФАНЬ ЧЖЭНЬ (р. прпбл. 450—515) — кит. философ-материалист. Автор трактата «Шэнь ме лунь» («Об уничтожении души»), направленного протиь учения махаяны о загробной жизни. Трактат написан в форме диалога и содержит разбор взаимоотношений души и тела. Ф. Ч. доказывает, что тело — материальная основа души, а душа — функция тела, поэтому, когда умирает тело, уничтожается и душа. В ответ на возражение, касающееся того, что отличие человека от дерева и других подобных предметов заключается в наличии у него сознания, что свидетельствует о
302 ФАРАБИ— ФАТАЛИЗМ
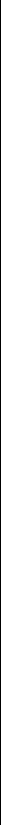 существовании души, Ф. Ч. заявляет, что как человек, так и дерево состоят из материи, но в противоположность древесной человеч. материя качественно иная — ей присуще сознание. Все части тела, по Ф. Ч., являются одновременно частями души, и воспринимаемые ими ощущения отличаются от мыслей (вместилищем к-рых Ф. Ч., следуя традиционной т. зр., считал сердце) лишь степенью интенсивности. В последней части трактата Ф. Ч. подчеркивает практич. важность отрицания бессмертия души как средства избавления людей от страха перед муками ада и от надежды на загробное воздаяние. Связывая даосскую идею естественности с конфуцианскими социальными воззрениями, Ф. Ч. пишет, что понимание всеобщей подчиненности единому вселенскому закону необходимости — возникновения и гибели, приведет к тому, что люди, находя удовлетворение в своих повседневных занятиях, ие будут стремиться ни к чему такому, что выходило бы за их пределы; это даст обществу устойчивость и процветание.
существовании души, Ф. Ч. заявляет, что как человек, так и дерево состоят из материи, но в противоположность древесной человеч. материя качественно иная — ей присуще сознание. Все части тела, по Ф. Ч., являются одновременно частями души, и воспринимаемые ими ощущения отличаются от мыслей (вместилищем к-рых Ф. Ч., следуя традиционной т. зр., считал сердце) лишь степенью интенсивности. В последней части трактата Ф. Ч. подчеркивает практич. важность отрицания бессмертия души как средства избавления людей от страха перед муками ада и от надежды на загробное воздаяние. Связывая даосскую идею естественности с конфуцианскими социальными воззрениями, Ф. Ч. пишет, что понимание всеобщей подчиненности единому вселенскому закону необходимости — возникновения и гибели, приведет к тому, что люди, находя удовлетворение в своих повседневных занятиях, ие будут стремиться ни к чему такому, что выходило бы за их пределы; это даст обществу устойчивость и процветание.
Лит.: Хоу В а й-л у [и др.], Чжунго сысян тунши
(История кит. идеологий), т. 3, Пекин, 1957, с. 373—403;
Fung Yu-lan, A historv of Chinese philosophy, v. 2,
Princeton, 1953, p. 289—92; Balazs E., The first Chinese
materialist, в его кн.: Chinese civilization and bureaucracy,
New Haven, 1966, p. 255—76. В. Рубин. Москва.
ФАРАБЙ, аль-Фараби, Абу Наср ибн Мухаммед (870—950) — философ, ученый-энциклопедист, один из основоположников аристотелизма на Ближнем и Ср. Востоке, в связи с чем получил прозвание «Второй учитель» («второй» — т. е. после Аристотеля). Ф. прокомментировал «Категории», «Герменевтику», «Аналитики» (1-ю и 2-ю), «Топику», «Софистику», «Риторику» и «Поэтику» Аристотеля, а также «Введение в философию» Порфирия. Из оригинальных работ Ф. наиболее известен трактат «Жемчужина премудрости» («Исбат аль-акль», Хайдарабад, 1928), а также «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» («Китаб ара ахл аль-мадпнат аль-фадила», см. в кн.: С. Н. Григорян, Из истории философии Ср. Азии и Ирана 7 —12 вв., М., 1960), в к-рых изложены соответственно филос. и социальные идеи Ф. В целом ему принадлежит ок. 100 работ по истории естеств. наук и философии.
В основе онтологии Ф. лежит платонистское учение об эманации: истечении различных сред бытия из «Единого»; мироздание представляется как девять заключенных друг в друге сфер-небосводов, обладающих душами, к-рые и заставляют сферы вращаться вокруг Земли и к-рые в свою очередь получили свою энергию от первотолчка. Движение п соприкосновение сфер рождает 4 осн. элемента (воду, воздух, огонь и землю), комбинации к-рых образуют тела. Тела, согласно Ф., состоят из формы и первичной материи, к-рая вечна и не зависит от бога — первопричины бытия. Средством познания бытия, по Ф., служат науки, к-рые разделяются на теоретические (логика, естеств. дисциплины, метафизика) и практические (этика и политика). В системе наук первенство принадлежит логике: она позволяет отличить истинное знание от ложного и является поэтому основой разума. Закон противоречия — осн. принцип логики. Процесс познания имеет две ступени: ощущение и мышление (intellec-tus), к-рые отображают различные стороны объектов: первое — их внешние, изменчивые свойства (акциденции), второе s существо предметов (субстанцию). Теория познания и сенсуализм Ф. непосредственно связаны с его учением о душе, свойствами к-рой являются ощущение и мышление. В вопросе о смертности или бессмертии души Ф., критикуя Платона, считает, что душа не предшествует телу, а появляется и умирает одновременно с ним. Отсюда — познание есть не «воспоминание» души о ее прежнем «бестелесном» существовании в мире эйдосов, как утверждал Платон:
«разумная душа» постигает природу вещей лишь на основе показаний органов чувств.
Социальный идеал Ф., изложенный им в «Трактате о взглядах жителей добродет. города»,— общество без насилия, войн и порабощения, основанное на дружбе и взаимопомощи граждан, управляемое просвещенным монархом. Общество разделено у Ф. на четко разграниченные слои, взаимозависимость и соподчинение между к-рыми представляются Ф. необходимыми для социальной гармонии.
Идеи Ф. оказали сильное влияние на развитие филос. и социальной мысли Востока и, в частности, на мировоззрение Ибн Сини, Ибн Баджи, Ибн Рошда, Низами и Ибн Халъдуна.
Соч.: Китаб аль-маджму, Каир, 1907; Существо вопросов, в кн.: Избр. "произв. мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока 9—14 вв., М., 1961; Комментарии к «Категориям» Аристотеля, там же.
Лит.: Очерки по истории филос. и общественно-политич.
мысли народов СССР, т. 1. М., 1955; История философии,
т. 1, М., 1957, с. 239—49; Хайруллаев М. М., Абу
Наср Форобий, Таш., 1961; Григорян С, Средневеко
вая философия народов Ближнего и Среднего Востока, М.,
1966,,с. 159—84. М. Хайруллаев. Ташкент.
ФАРБЕР (Farber), Марвин (р. 14 дек. 1901) — амер. философ-феноменолог с тенденцией к материализму. Ученик Гуссерля. Проф. ун-та в Буффало (с 1930), заслуженный профессор (с 1954), президент Междунар. феноменологич. об-ва (с 1940), гл. редактор журн. «Philosophy and Phenomenological Research». Начав свою филос. деятельность как компилятор Гуссерля, Ф. к 40-м гг. переходит на позиции т. и. натурализма (близкого к материализму), рассматривая феноменологию с ее редукцией лишь как вспомогат. метод, необходимый для предварит, анализа понятий, категориальных структур. Ф. подвергает критике идеалистич. т. зр. Гуссерля; признает объективную реальность и материальное единство мира, первичность природы по отношению к сознанию. Он приближается к историческому материализму, выдвигая обществ, отношения в качестве фактора, определяющего обществ, сознание и трактуя, в частности, философию как концентрированное выражение доминирующих социальных интересов. Близость Ф. к марксизму выражена и в его интересе к проблемам труда и капитала, империализма и войны.
С о ч.: The foundation of phenomenology, Camb. (Mass.), 1943; Naturalism and subjectivism, Springfield, 1959; The aims of phenomenology. The motives, methods and impact of Husserl's thought, N. Y., 1966; Phenomenology and existence: toward a philosophy within nature, N. Y., 1967; Basic issues of philosophy: experience, reality and human values, N. Y., 1968.
Лит.: Быховский Б. Э., Распредмечивание фило
софии, «ВФ», 1956, Л1?) 2; его ж е, На верном мути, там же,
1961, М» 12., Т. Лапта. Москва.
ФАТАЛИЕВ, Халиль Магомедович (1915—23 окт. 1959) — сов. философ и физик, д-р филос. наук (с 1950). Окончил физпч. фак-т МГУ (1937). В 1946 — второй секретарь Дагестанского обкома КПСС. В 1947— депутат Верховного Совета РСФСР и член Президиума Верховного Совета Даг. АССР. В 1953 — 1959—зав. кафедрой философии естеств. фак-тов МГУ. Область науч. исследований Ф.— филос. проблемы естествознания. Под его руководством был подготовлен трехтомный труд «Философские вопросы естествознания». Работы Ф. «Естественные науки в жизни общества» (М., 1956) и «Диалектический материализм и вопросы естествознания» (М., 1958) были удостоены Ломоносовской премии (1959).
Соч.: Естеств. науки и материально-производств. база общества, М., 1960; Марксистско-ленинская философия и естествознание, М., 1960; Марксизм -ленинизм и естествознание. [Сб.,работ], М., 1962.
ФАТАЛИЗМ (от лат. fatalis — предопределенный судьбой, роковой) — мировоззренч. концепция, истолковывающая действительность как нечто предопределенное. Ф. исходит из признания неизбежного хода вещей и тем самым исключает становление новых воз-
 2015-05-06
2015-05-06 413
413








