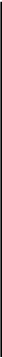 |
| 410 |
Морфология и скусства
результате чего остается место для нашей фантазии и интуиции. Бреле прибегает и к иносказаниям, что оживляет текст, но наносит ущерб определенности мысли.
Особо хочу подчеркнуть, что у студентов Новосибирской консерватории, не владеющих французским языком, имеется счастливая возможность ознакомиться с первым томом этого уникального исследования: русский перевод этой книги есть в нашей библиотеке. Воспользуйтесь этим и вы получите прекрасный шанс приобщиться к целому комплексу оригинальных идей, которые будят мысль и заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, вполне привычные вещи.
Своеобразие исполнительства и его места в художественно-творческом процессе обусловлено, как считает Бреле, специфическими особенностями процессуальных искусств. Пластические искусства не вовлекают нас в творчество артиста. В архитектуре и живописи деятельность художника оставляет после себя в качестве свидетельства того, что она имела место, неизменное произведение, живущее своей «уединенной жизнью», вне действия, в результате которого оно родилось. Созданный объект заставляет нас забыть о творческой деятельности и сохраняет свое постоянство как «инертная вещь». Действие же, благодаря которому реализуется музыкальное произведение, не может существовать в отрыве от конкретного исполнения. «Музыкальное произведение существует лишь в тот момент, когда благодаря исполнению, оно выявляется в созидательном акте...» [1, с. 12]. Оно есть результат сиюминутного творчества, в котором реальность объекта составляет одно целое с порождающей его деятельностью.
Произведение изобразительного искусства, - отмечает Бреле, - это реальность, а музыкальное произведение прежде всего потенциальная возможность. Оно остается возможностью ♦ между своими последовательными воскрешениями». Произведение существует и, тем не менее, оно может существовать только благодаря исполнителю. «Его нет, пока исполнитель не вдохнет в него жизнь» и вместе с тем «оно господствует над ним и заставляет служить себе» [1, с. 5]. Музыкальное произведение доверяет «свою жизнь и свои ценности» реализующему его акту: не способное оживить себя собственными
| 411 |
Лекция XIII
силами, оно с необходимостью подчиняется своему интерпретатору. И «как Спящая красавица, которую должен разбудить принц, оно ждет, чтобы исполнитель пробудил ее ото сна, которым она спит в партитуре» [1, с. 2]. Вот почему «существование музыки - это акт ее осуществления, непрерывный переход от возможности к реальному действию» [1, с. 6]. «Вся проблема исполнения музыкального произведения как раз и заключается в этом парадоксе, что произведение уже существует, живое и в то же время спящее...» [1, с. 2].
 Всякое искусство должно быть реализовано, то есть должно существовать в виде произведения, наделенного чувственным телом. Слову «исполнение» Ж. Бреле считает возможным придать общий смысл «осуществления» и рассматривать каждый из видов искусства как содержащий долю исполнения или осуществления. В художнике всегда сосуществует творец и исполнитель. Но реализация в искусстве, как подчеркивает Бреле, это не просто «материализация ради самой себя», а конкретное воплощение замысла с целью его обогащения. Необходимо, чтобы художественная идея и художественная форма были согласованы с материей, в которой они должны воплотиться. «Ведь только благодаря совершенной адаптации к своей материи идея артиста вписывается в природу и получает онтологическое значение» [1, с. 31]. Реализация идеи требует глубокой ее трансформации, ограничения горизонта возможных вариантов и вместе с тем ее обогащения всем, что дает ей «общение с материей». «Несомненно, - отмечает Бреле, - каждое художественное произведение в силу того, что оно реально существует в единственном числе, в какой-то мере обедняет идею, но это обеднение отбрасывает все возможные варианты лишь для того, чтобы они уступили место полноте варианта, осуществляемого в данный момент» [1, с. 4].
Всякое искусство должно быть реализовано, то есть должно существовать в виде произведения, наделенного чувственным телом. Слову «исполнение» Ж. Бреле считает возможным придать общий смысл «осуществления» и рассматривать каждый из видов искусства как содержащий долю исполнения или осуществления. В художнике всегда сосуществует творец и исполнитель. Но реализация в искусстве, как подчеркивает Бреле, это не просто «материализация ради самой себя», а конкретное воплощение замысла с целью его обогащения. Необходимо, чтобы художественная идея и художественная форма были согласованы с материей, в которой они должны воплотиться. «Ведь только благодаря совершенной адаптации к своей материи идея артиста вписывается в природу и получает онтологическое значение» [1, с. 31]. Реализация идеи требует глубокой ее трансформации, ограничения горизонта возможных вариантов и вместе с тем ее обогащения всем, что дает ей «общение с материей». «Несомненно, - отмечает Бреле, - каждое художественное произведение в силу того, что оно реально существует в единственном числе, в какой-то мере обедняет идею, но это обеднение отбрасывает все возможные варианты лишь для того, чтобы они уступили место полноте варианта, осуществляемого в данный момент» [1, с. 4].
В изобразительном искусстве замысел «полностью исчерпывает себя» в готовом произведении. Множество же исполнений, в которых реализуется музыкальное произведение, в достаточной мере свидетельствует о его незавершенности и о тех возможностях, которые еще «таятся в нем». Нет реализации без интерпретации, то есть без «полного и основательно-
412
Морфология искусства
Лекция XIII
413


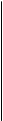 го пересмотра идеи». Вместо того, чтобы с легкостью подчиняться воле композитора и лишь пассивно следовать за его творчеством, исполнение само становится творческим актом. В музыке отдельно даются две посылки - творец и исполнитель, но только их союз «составляет произведение искусства»
го пересмотра идеи». Вместо того, чтобы с легкостью подчиняться воле композитора и лишь пассивно следовать за его творчеством, исполнение само становится творческим актом. В музыке отдельно даются две посылки - творец и исполнитель, но только их союз «составляет произведение искусства»
[1,с. 29].
Исполнение и произведение охвачены отношениями «двойного превосходства». Произведение превосходит исполнение по богатству возможных вариантов, но это неизбежно влечет за собой неопределенность конкретного; исполнение превосходит произведение по качественной точности, но в то же время ограничивает его, и поэтому всегда кажется, что любое конкретное исполнение неадекватно богатству произведения.
Связь музыкального произведения со своим исполнением, уточняет Бреле, — это отношение «темы» к ее «вариации». Исполнитель должен строго соблюдать тему, но вариации остаются свободными. Музыкальное произведение является определенными неопределенным одновременно. Поэтому исполнение не может ограничиться строгим соблюдением темы, так как в этом случае пришлось бы «соблюдать неопределенность».
Ж. Бреле считает, что существует возможность произведения, предшествующая акту исполнения, и возможность произведения, следующая за ним и вытекающая из него. Возможности, которые предшествуют исполнению, неопределенны; исполнение должно исключить эти возможности, но лишь для того, чтобы породить другие.
Благодаря своему собственному значению исполнение влияет на саму суть произведения. Породив исполнение, произведение «оказывается порожденным им самим»; они не перестают «взаимно создавать друг друга». Любое исполнение обеспечивает произведению новое «идеальное существование», опору для последующих исполнений. Художественная идея в самой своей реализации «обретает новый творческий порыв». Если после каждого исполнения музыкального произведения становится возможным его реализация в другой манере, значит исполнение «трансформирует само задуманное произведение».
Несомненный интерес представляют рассуждения Ж. Бреле о правомерности музыкальной интерпретации. Задача исполнителя заключается в том, чтобы найти гармонию между «сутью произведения» и оригинальным «вкладом его реализации». Правомерность музыкального исполнения упирается, следовательно, в соотношение «точного соблюдения» и «творческой переработки». Соблюдать произведение - значит «слышать призыв, адресуемый его реализации», его «позитивную тенденцию к бытию». Хотя и не может существовать конкретного исполнения, которое следовало бы принять за абсолютный эталон в этой области, существуют исполнения бесспорно ложные: это такие исполнения, которые «деформируют суть произведения», ту тему - «музыкальную форму и духовный мир», - которая составляет в нем постоянную «инвариантную сущность».
Любое исполнение - это принятие определенной точки зрения. Реализовать - значит выбрать, следовательно, и исключить. Но в любом совершенном исполнении непременно воссоздается «формальное ядро». Ни одно исполнение не исчерпывает его сути. Суть произведения остается «постоянной проблемой».
Написанный текст сохраняет лишь «фундаментальную архитектуру музыки». Запись служит абстрактным и неточным отображением замысла. Она - обнажение идеи. Если бы в тексте можно было указать чрезвычайно точно «степень реализации», исполнение стало бы бесполезным. Если записанный ритм соблюдается чрезмерно строго и слишком скрупулезно соответствует символам, которыми он выражается в тексте, он остается искусственным и лишенным жизни. Записанные нюансы весьма неточны по отношению к тому, чем они должны стать в исполнении. Акценты указываются лишь «суммарно» и ограничиваются выделением «крупных единиц»; при исполнении происходит чрезвычайно мелкое акцентирование, как необходимое дыхание, которое «реализуется только благодаря жесту» и подтверждает свою внутреннюю гибкость, свою «податливость времени». Звучание и темп лишь в исполнении обретают свою определенность. Каждый темп актуализирует в произведении особую грань «экспрес-

|
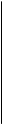 | |||
 |
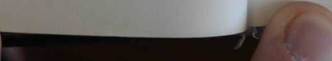
|
 414
414
Морфология иск усе тва
сивного содержания», которая и выявляется только благодаря ему. Одним словом, неопределенность нотного текста, «неопределенность, которая сохраняет богатство возможных вариантов, это не что иное, как бедность» [1, с. 37]. Воплощение -это и есть «определение неопределенного».
Неверно было бы думать, подчеркивает Бреле, что исполнитель должен увидеть за абстракцией написанного текста 4конкретное желание автора». Когда произведение сочинено, оно предлагает композитору то же богатство возможных вариантов, что и остальным музыкантам. Исполнение композитора не имеет никакой привилегии и не обязательно более соответствует произведению, чем другие возможные исполнения. С того момента, когда автор становится исполнителем своего произведения, он подчиняется всем ограничивающим условиям исполнительского искусства.
По ту сторону зоны, в которой исполнение является прежде всего неукоснительным соблюдением, существует «зона свободы», где в полной мере проявляются «ценности интерпретации». Этот закон действует во всех сферах исполнительского творчества: в сольной игре, ансамблевом музицировании, в искусстве дирижера. Может показаться, пишет Бреле, что в ансамбле индивидуальности исполнителей должны в большей степени ограничивать себя во имя общей гармонии. Однако в действительности идеал ансамблевого исполнения - достичь свободы и непосредственности, которые первоначально казались естественной привилегией солиста. Бреле не скрывает своего иронического отношения к дирижерам «объективного типа», которые превращают инструменталистов «в точных функционеров анонимной администрации». В отличие от них великий дирижер, «как бог Лейбница», согласует в одной системе различные монады в соответствии с их собственной оригинальностью.
Творчество, предполагаемое при реализации произведения, регламентируется самим произведением: музыка должна завершаться в соответствии с тем, что она собой представляет. «Свобода исполнения очень хрупка, - пишет Бреле, - и сам успех ее скрытен, потому что его сила кроется именно в тайном сходстве исполнительского творчества с сутью произведения» [1, с. 42]. Природа того, что интерпретатор добавляет
Лекция XIII
| по- |
 от себя, не является одинаковой для всех произведений, скольку он должен играть Бетховена в бетховенской манере, а Шумана - в шумановской. «Некоторые исполнители отличаются очень большой свободой игры, но тем не менее манера их такова, что кажется, будто они живут с произведением одной жизнью» [1, с. 42].
от себя, не является одинаковой для всех произведений, скольку он должен играть Бетховена в бетховенской манере, а Шумана - в шумановской. «Некоторые исполнители отличаются очень большой свободой игры, но тем не менее манера их такова, что кажется, будто они живут с произведением одной жизнью» [1, с. 42].
Затушевывание исполнителем собственного «я» неизбежно приводит к «ухудшению самой реализации». Строго «соблюдать» произведение - это значит соблюдать его суть, это значит завершать его, придавая ему точность такой высокой степени, которая не может предшествовать самому акту реализации. Только творческая свобода интерпретатора может обеспечить строгое «соблюдение» произведения, то есть выполнить предписанное ему требование реализации, требование, которое обеспечивает ему «бытие за его собственными пределами». Если же исполнитель «отказывается превзойти произведение, он искажает его» [1, с. 43].
Ощущать «вкус старинной музыки» мы можем только посредством «чувств современного человека». Ж. Бреле различает в исполнении старинной музыки две тенденции: одну - стремление лишь к исторической точности и другую - к точности в отношении к произведению и к «требованиям современного человека». Историческая реконструкция представляет определенный научный интерес, но ни в коей мере не художественный. Исполнение не может быть «историческим восстановлением», «чистой лекцией по истории музыки». «Напрасно пытаться услышать произведение так, как слышали его современники: несмотря на то, что мы восстанавливаем точное исполнение, характерное для эпохи, мы слышим его только так, как мы можем слышать» [1, с. 104]. Играть классические произведения в современной интерпретации -значит «мешать им становиться академическими», «возвращать им их непосредственность и молодость», вдыхать в них новую жизнь, «находить ту вечную актуальность, которой они обладали уже в момент своего рождения» [1, с. 107]. Реставрировать музыку - значит вовсе «не спасти произведение», но окончательно «потерять его», «приковать к прошлому и отрезать от настоящего времени».
| 416 |
Морфология_искусства
Точное восстановление «звучащего факта» - это еще не восстановление «музыкального факта». Последний прежде всего «факт человеческий». В исполнении проявляется «человеческая ценность интерпретатора», его духовные особенности и уровень культуры. «Если интерпретатор абстрагируется от себя, значит он остается на поверхности произведения, не проникая в его живую душу. Интерпретатор не может быть верным произведению, если он не верен прежде всего себе» [1, с. 124]. В исполнении оставляет след и национальная принадлежность артиста: «Итальянец во время игры живой и вспыльчивый, француз - светлый и грациозный, немец - задумчивый и мечтательный, испанец - энергичный, русский - страстный под внешней сдержанностью, играющий по-человечески глубоко и музыкально чисто» [1, с. 121].
Можно было бы, очевидно, еще и еще обращаться к вопро сам, которые Бреле стремится охватить в своем двухтомнике. Однако и приведенного здесь материала, по-видимому, доста точно, чтобы уловить внутреннюю логику рассуждений французской исследовательницы, осмыслить сильные и слабые сто роны ее теоретических построений.
Основная ценность теоретических работ Ж. Бреле заключается в достаточно подробном и убедительном в своих глав ных чертах обосновании творческого характера исполнитель ской деятельности. Исполнитель - своеобразный художник; в сотрудничестве с автором произведения он принимает на свои плечи важную долю творческого труда, вносит заметный вклад в сокровищницу искусства, призван играть и действительно играет специфическую, незаменимую роль в истории художеств.
Здесь, однако, уместно будет упомянуть, что существует и иная точка зрения на эстетическую концепцию Бреле. Н. П. Корыхалова, например, считает, что «Бреле, в благом намерении утвердить тезис о творческом характере исполнительской деятельности, отводит исполнителю в творческом кругообороте музыки главенствующую роль» [2] и что деятель ность исполнителя и его личность «привлекают внимание Бреле ввиду их первостепенной важности для музыкального искусства в целом» [2, с. 79]. По мнению Н. П. Корыхаловой.
| 417 |
XIII
специфика музыкального искусства, взаимоотношения композитора и исполнителя, соотношение объективных и субъективных моментов творческого процесса получают в трудах Бреле «искаженное освещение»: в них все это «поставлено с ног на голову», поскольку-де композитор дает всего лишь незаконченную схему, а исполнение выступает как акт художественного творчества, завершающий создание музыкального произведения. «А если это так, - пишет Корыхалова, - если произведение «творится» прямо в процессе исполнения, остается заключить, что вне исполнения и до него оно попросту не существует» [2, с. 83]. Исполнитель не только не может выполнять в музыкальном искусстве первостепенную роль, но даже не вправе считаться соавтором композитора. «Если можно еще - и то лишь метафорически - назвать соавтором артиста, конгениального по силе своего художественного таланта творцу музыки, - замечает Н. П. Корыхаловп, - более чем странно звучало бы подобное утверждение применительно к исполнителю с весьма скромными возможностями («Во вчерашнем концерте пианист имярек благополучно завершил в процессе своего выступления акт создания «Аппассионаты», столь удачно начатой в свое время Людвигом ван Бетховеном...») [2, с. 86]. По отношению к музыкальному произведению творческая роль исполнителя, как подчеркивает Н. II. Корыхалова, состоит «не в досоздании, а в воссоздании».
 Заметим, однако, что с такой постановкой вопроса трудно согласиться. Если «воссоздание» произведения характеризуется исключительно как акт репродуктивный, то творчество в нем отсутствует и результатом такого исполнительского процесса может быть только копия. Если же «воссоздание» действительно понимается Н. П. Корыхаловой как акт, в котором исполнитель «прочитывает» произведение «по-новому, по-своему» [2, с. 86], оно, с нашей точки зрения, обязательно включает в себя момент досоздания и представляет собой синтез продуктивной и репродуктивной деятельности. Творческая деятельность всегда есть некий вклад. А если это так, то здесь уж, как говорится, одно из двух: либо вклад в конкретное исполнение - это одновременно и вклад в само произведение, либо исполнение и произведение между собой никак
Заметим, однако, что с такой постановкой вопроса трудно согласиться. Если «воссоздание» произведения характеризуется исключительно как акт репродуктивный, то творчество в нем отсутствует и результатом такого исполнительского процесса может быть только копия. Если же «воссоздание» действительно понимается Н. П. Корыхаловой как акт, в котором исполнитель «прочитывает» произведение «по-новому, по-своему» [2, с. 86], оно, с нашей точки зрения, обязательно включает в себя момент досоздания и представляет собой синтез продуктивной и репродуктивной деятельности. Творческая деятельность всегда есть некий вклад. А если это так, то здесь уж, как говорится, одно из двух: либо вклад в конкретное исполнение - это одновременно и вклад в само произведение, либо исполнение и произведение между собой никак
14 Заказ *2*>
I
Морфологи я искусства
не связаны; потому что третье - «произведение музыкального искусства - это тот инвариант, который существует в исполнительских вариантах, то общее, что проявляется в отдельном и через отдельное» [3], по нашему мнению, вообще неприемлемо. Н. П. Корыхалова признает, что исполнитель вносит в произведение определенные дополнения (правда, она берет это слово в кавычки) и совершенно правильно подчеркивает, что эти дополнения «не являются произвольными» и осуществляются «в порядке раскрытия и углубления содержащихся в произведении художественных образов» [2, с. 84]. Но если здесь может идти речь о некоем углублении содержания, не будет ли не менее странно звучать что-нибудь в этом роде -«во вчерашнем концерте пианист имярек углубил «Аппассионату» Бетховена»? Пожалуй, будет; да дело не в «звучании». Исполнитель - не просто имярек, он - личность. Он тысячами нитей связан с обществом, «погружен» в конкретную социальную среду, «пронзен» специфическими токами социально-культурного поля. Он обогащен многовековым человеческим опытом: общество наделило его практическими навыками и своей мудростью, уровнем знаний объективной реальности и искусства, пониманием других людей и самого себя. Исполнитель впитал величайшие достижения человеческой культуры; он, как и другие его современники, стоит на плечах гигантов, руками, умом и сердцем которых в ту пору осуществлялся общественный прогресс. Здесь нет ничего, что могло бы ущемить достоинство гениев прошлого: плоды их творческого труда усваиваются другими поколениями и вместе с ними продолжают жить, развиваясь и углубляясь, обогащаясь совокупным опытом человеческой культуры.
Не унизить композитора хочет Ж. Бреле, она протестует против недооценки творческой миссии исполнителя, страстно выступает против попыток свести его деятельность к механическому воспроизведению ценностей, созданных до него. Но если мы исходим из того, что исполнение - не точная копия, если мы соглашаемся с тем, что интерпретатор вносит в произведение нечто свое, почему же нам не признать, что исполнитель - это соавтор? К этому выводу неизбежно приводит исследование внутренней логики художественного процесса.
| 419 |
Лекция XIII
Конечно, соавтор соавтору рознь. Существуют, по-видимому, качественно различные типы соавторства, смешивать которые нельзя. Было бы наивно искать абсолютное тождество в таких явлениях, как совместное творчество писателей,.создающих литературное произведение, и сочинение композитором песни на ранее сложенный поэтический текст. Было бы неправильно не видеть различий в соавторстве двух сценаристов, с одной стороны, и сценаристов и режиссера фильма -с другой. Своеобразные узы сотворчества объединяют авторов транскрипций, обработок, вариаций или парафраз с создателями их художественных «первоисточников». Одним словом, эти и другие типы взаимосвязей в искусстве, в том числе и особые отношения, которые складываются между создателями художественных ценностей и их интерпретаторами в творческом процессе исполнения, еще ждут своего углубленного исследования.
 Что же касается композитора, то он создает не просто схему. Схемой является лишь нотная запись, а композитор делает все, что ему и положено делать: он создает произведение. Его творческие усилия по своей важности для искусства в целом, разумеется, первостепенны. Для Бреле этот факт настолько же очевиден, как и для нас. Если произведение, сочиненное композитором, еще не исполнялось, оно, - это Бреле подчеркивает многократно, - все-таки существует. Оно есть, оно живое. Правда, оно - «спящее» и существует пока только как возможность. «Реальность» же музыкального произведения, по Бреле, осуществляется в конкретных вариантах исполнительской деятельности. Музыкальное произведение, как и произведение других процессуальных искусств, заключает в себе «дуализм задуманного и исполненного». Следовательно, до своего исполнения оно не существует в одном только особом отношении - оно не существует как произведение исполненное, оно не существует как действительность. В этом, и именно в этом, смысле надо понимать тезис Бреле о музыкальном произведении, которое не предшествует исполнению, а вытекает из него. Но и не только в этом. Существует еще один оттенок «зависимости» музыкального произведения от отдельных исполнений. Проявляется он в том, что исполне-
Что же касается композитора, то он создает не просто схему. Схемой является лишь нотная запись, а композитор делает все, что ему и положено делать: он создает произведение. Его творческие усилия по своей важности для искусства в целом, разумеется, первостепенны. Для Бреле этот факт настолько же очевиден, как и для нас. Если произведение, сочиненное композитором, еще не исполнялось, оно, - это Бреле подчеркивает многократно, - все-таки существует. Оно есть, оно живое. Правда, оно - «спящее» и существует пока только как возможность. «Реальность» же музыкального произведения, по Бреле, осуществляется в конкретных вариантах исполнительской деятельности. Музыкальное произведение, как и произведение других процессуальных искусств, заключает в себе «дуализм задуманного и исполненного». Следовательно, до своего исполнения оно не существует в одном только особом отношении - оно не существует как произведение исполненное, оно не существует как действительность. В этом, и именно в этом, смысле надо понимать тезис Бреле о музыкальном произведении, которое не предшествует исполнению, а вытекает из него. Но и не только в этом. Существует еще один оттенок «зависимости» музыкального произведения от отдельных исполнений. Проявляется он в том, что исполне-
| 420 |
Морфология искусства
 ние способно породить новые возможности, которые затем реализуются в произведении, его же и обогащая. Таким образом, нельзя постигнуть концепцию Бреле, вычленяя отдельные формулы из текста. Только в их противоречивом единстве раскрывается ее подлинная позиция.
ние способно породить новые возможности, которые затем реализуются в произведении, его же и обогащая. Таким образом, нельзя постигнуть концепцию Бреле, вычленяя отдельные формулы из текста. Только в их противоречивом единстве раскрывается ее подлинная позиция.
Ну а как же все-таки быть с дилеммой: завершает композитор музыкальное произведение в процессе его создания или не завершает? Мнение Н. П. Корыхаловой на этот счет выражено вполне определенно: безусловно, да [2, с. 84]. Нам кажется, однако, что ответ на этот вопрос можно будет получить не раньше, чем удастся раскрыть социальную природу произведения искусства как некоего художественного целого, включая и осмысление критериев его завершенности. Интересные положения о жизненном цикле произведения, модусах и фазах его бытия, о двойственности его онтологической структуры и особенностях материального субстрата высказаны, например, 3. И. Гершковичем [4]. Автор стремится извлечь рациональное зерно из представлений Гегеля о гетерогенной структуре произведения как диалектическом взаимопереходе экзистенциальных модусов. Бытие произведения рассматривается под этим углом зрения как целостный жизненный цикл, протекающий от его зарождения до его восприятия и включающий в себя три основные стадии развития: проектную, фазу объективного бытия и перцептную. Общим ядром, обеспечивающим связь и преемственность всех фаз бытия произведения, придающим им «особую изоморфность в рамках единого экзистенциального цикла», Гершкович считает «образ действительности, преломленный сквозь призму личностной структуры творца, сквозь призму его идейно-эстетической позиции» [4, с. 51]. В первой фазе существования произведение конструируется в виде становящегося и развертывающегося «проекта» («для-художника-бытие»). Здесь, как считает Гершкович, о «произведении нельзя сказать, что оно не существует, что оно как произведение - ничто. В замысле художника произведение оживает, уже выходит из небытия, обретает бытие, но это еще не ставшее, а становящееся произведение» [4, с. 52]. Во второй фазе произведение обретает жизнь ♦вне субъекта, в межличностном пространстве» и превраща-
Лекция XIII
| 421 |
_______________________________ 4П^
ется в достояние социума. «Для-художника-бытие» произведения трансформируется в «для-общества-бытие» [4, с 53] И наконец, в третьей фазе существования художественное целое принимает форму «идеального перцепта», конструируемого в акте отражения реципиентом «материального модуса произведения».
Можно согласиться с Н. П. Корыхаловой, что музыкальное произведение, «вышедшее из рук композитора», уже обладает объективным художественным содержанием, воплощенным в соответствующую художественную форму. Однако это все же «не ставшее, а становящееся произведение» (Гершкович), которому еще предстоит перейти в фазу объективного бытия. Так что же - завершено оно или нет? Думается, что права все же Бреле - произведение завершено как возможность. Этого вполне достаточно, ибо произведение завершено ровно настолько, чтобы «поступить в распоряжение исполнителя, стать объектом его вторичного творчества» (Корыхало-ва).
Продолжается ли процесс становления музыкального произведения в исполнительском акте? Несомненно. Но и здесь мысль Бреле о «завершающей миссии» музыканта-интерпретатора не надо понимать буквально или, во всяком случае, однозначно. По отношению к композитору исполнитель, конечно же, завершает создание музыкального произведения, но лишь в том смысле, что придает ему в исполнительском процессе объективное бытие или, точнее говоря, завершает один из возможных вариантов конкретизации. Но завершает ли исполнитель музыкальное произведение по отношению к слушателю? Едва ли; ведь не случайно Бреле настойчиво подчеркивает, что «произведение искусства полностью осуществляется только в субъективной реальности созерцания» [1, с. 24].
Ж. Бреле чувствует тождество произведения и восприятия, активную роль субъекта, воссоздающего идеальный план художественного целого в процессе эстетического созерцания, хотя природу этого тождества она скорее интуитивно угадывает, чем верно осмысливает научно. Философско-теоретичес-кая платформа французской исследовательницы не дает ей,
Морфология искусст ва
разумеется, возможности глубоко вникнуть в сущность тех социальных факторов, которые играют решающую роль в действительном процессе завершения произведения искусства как общественной художественно-культурной ценности, понять подлинную диалектику художественного целого - этого специфического продукта системы художественного производства и вместе с тем особого объекта и результата общественного
потребления.
И все же выводы, полученные Ж. Бреле в анализе творческой природы исполнительского искусства, нельзя не оценить достаточно в. соко. А на вполне закономерно возникающий здесь вопрос - что же прежде всего обеспечило успех ее исследования? - можно, пожалуй, ответить так: широкое применение диалектического метода.
Правда, С. Лисса в одной из своих работ посчитала возможным мимоходом бросить краткое замечание в адрес Ж. Бреле, назвав ее взгляды «метафизической системой музыкальной эстетики» [5]. Трудно с полной уверенностью сказать, какой смысл вкладывала в это определение польская исследовательница, -имела ли она просто в виду философско-теоретическую часть воззрений Бреле (иногда под метафизикой понимают учение о сверхчувственных принципах бытия) или подразумевала действительно имеющие место в концепции Бреле черты метафизического метода исследования в духе французского философа-идеалиста Анри Бергсона. В любом случае ясно одно: в основу проанализированных нами взглядов Бреле, безусловно, положена относительно стройная и достаточно последовательная диалектическая система эстетики исполнительского искусства.
 2015-04-30
2015-04-30 257
257







