Значения слов устанавливаются не мнением отдельных лиц,
а обычаем употребления (лат.афоризм)
Честность является высшей пробой ученого. Не в бытовом смысле – там уж само собой, иначе и быть не может. Нет, речь о терминах и понятиях, о невозможности для ученого допускать подмену одного понятия другим. Можно расходиться во взглядах даже на основополагающие научные понятия, но нельзя белое называть черным – наука развалится. Никакая диалектика этого не выдержит. Нельзя откровенно называть в академическом журнале интеллектуальным то, что по собственному определению отношения к интеллектуальности не имеет. Впрочем, как и то, что является количеством информации, информацией быть не может.
А потому примем все сказанное во внимание, и не будем так поступать. Попробуем сами, вместе с читателем навести некоторый начальный порядок. Например, построим непротиворечивую архитектуру интеллектуальной системы управления (концептуальный вариант для общего понимания), так чтобы интеллектуальность осталась интеллектуальностью по общепринятому определению. Не так уж это и трудно. Достаточно просто не отходить от общепринятой терминологии, реализовать ее на уровне возможностей технических средств, но «без подмены задачи», без ухищрений в определении целей построения.
|
|
|
Начнем с предуведомления. Все рассмотренные выше варианты понимания интеллектуальности предусматривали построение раба в прямом смысле этого слова – системы, безропотно подчиненной нам на уровне выполнения заложенного алгоритма и, самое большое – правильно догадывающейся о том, что бы мы хотели, но не сказали или сказали неточно. Но интеллект – это свобода выбора, интеллектуальная система – система с которой надо договариваться, а не программировать в ней безусловные рефлексы, управлять просьбой, а не директивой. Иначе о чем вообще тогда говорить?
В свое время одному из авторов этой книги приходилось писать [13]:
«Интеллектуальное управление является не директивно-командным стилем контакта человека с искусственной системой, обладающей самыми совершенными алгоритмами адаптации и приспособления к неявным планам своего повелителя, а равноправным диалогом систем (возможно и не являющихся или не содержащих в себе человека), обладающих интеллектом как атрибутом.
Гуманоидной, равно как и негуманоидной системе для того, чтобы оценить, интеллектуально ли то, с чем она общается, нужно ощутить направленное и «разумное с ее точки зрения» сопротивление управляемого объекта, получить какое-либо подтверждение факта усвоения им полученного сообщения и некоторые гарантии правильности (опять же с собственной точки зрения «управителя») его усвоения.
|
|
|
Все же остальные постановки задачи управления, связанные с созданием самых совершенных алгоритмических систем и любыми способами их коррекции, мы предлагаем впредь не относить к понятию интеллектуального управления, ибо методологически использование или не использование такого термина ничего не меняет в их «математическом фундаменте», если, конечно, не считать терминологической путаницы. В таких задачах интеллект остается у человека, алгоритм коррекции управления, выработанный на основании эвристик или копирования поведения человека – у системы и никакого их «смешивания» не происходит.
Мы должны решительно возражать против приписывания этому управлению какой-либо «интеллектуальности». Не интеллектуальные системы мы при этом проектируем, а просто нормальные алгоритмы, пусть и адаптивные (адаптивность-то алгоритмическая, а не какая-то «интеллектуальная») пишем. И не летчика или оператора копируем при создании «интеллектуальных систем, заменяющих человека», а того робота, которого из них профессия сделала.
Она (профессия) подготовит на удобном материале (замкнутой системе, алгоритмизированном мире) человека-автомата, а мы его скопируем. А на «плохом» материале (открытой, неформализованной системе) подготовит – не скопируем, просто «не получится».
В этом смысле работы, требующие меньшей специальной начальной подготовки, типа уборки улиц и помещений, зачастую являются «истинно интеллектуальными» (неалгоритмизируемыми). И ничего обидного или противоречивого в этом нет».
Здесь полезно сделать небольшое примечание. Сказанное выше построено на абсолютном отказе признания какой-либо интеллектуальности за алгоритмическими системами. Но существуют и противоположные мнения, все еще понимающие интеллект «по А. Тьюрингу». Читателю предлагается сравнить приведенное высказывание все с тем же «фундаментальным принципом» Г. Сардиса, в котором «под интеллектуальностью системы подразумевается ее способность работать с базой внешних событий или ситуаций, с целью привлечения неких специальных знаний, позволяющих уточнять предложенную задачу и наметить пути ее решения, под неточностью – неопределенность в выполнении операций по решению задачи».
Да, так и строят обычно алгоритмическую систему, но все тот же вопрос – а что такое здесь интеллектуальность? Чем она отличается здесь, например, от чисто математической адаптивности?
Но остановимся, пока, на этом, с тайной надеждой, – может возникнет в стране популяция ученых, рискнувших начать обучение студентов информации, как науке, у которой будут «сходиться концы с концами», науке, в которой Природное и математическое не перемешано, но занимает свои отдельные, достойные их места, и возникнет также популяция студентов, могущих понять информацию сквозь сомнительную сущность множества построений, ныне базирующихся на весьма сомнительном фундаменте, твердость которого не выдерживает никакой проверки. И не только могущих, но и активно возражающих против такого беспредела в преподавании науки.
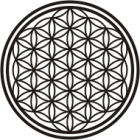
 2020-04-12
2020-04-12 149
149








