Каждый раз, задавая вопрос, мы порождаем возможную версию жизни
Дэвид Эпстон в Cowley and Spnngen
. Есть такие вопросы, которые задерживаются в
умах клиентов на недели, месяца, порой на годы, и продолжают оказывать влияние
Карл Томм, 1988
Мы все начинаем задавать вопросы, едва научившись говорить. Тем не менее мы, нарративные терапевты, обдумываем вопросы, сочиняем их и используем иначе, чем раньше. Главное отличие состоит в том, что мы задаем вопросы, чтобы порождать опыт, а не собирать информацию. Когда вопросы порождают смысл предпочтительных реальностей, они могут иметь терапевтический характер и по сути, и по содержанию. Об этой идее писали многие (напр., Campbell, Draper, & Huffmgton, 1988; de Shazer, 1994; Fleuridas, Nelson, & Rosenthal, 1986; Freedman & Combs, 1993; Lipchik& de Shazer, 1986; O'Hanlon & Weiner-Davis, 1989; Репд, 1985; Tomm, 1987a, 1987b, 1988; White, 1988a). Но впервые она была высказана миланской группой (Selvini Palazzoli, 1980), когда они размышляли над тем, может ли изменение произойти исключительно благодаря процессу интервьюирования (который состоял в основном из задавания круговых вопросов), без заключительной интервенции.
Впервые мы начали задумываться над тем, как вопросы могут породить смысл, несколько лет назад, когда использовали главным образом идеи стратегической терапии. В то время мы работали с семьей, которая пришла на терапию, поскольку их дочь, 12-летняя Кэти, не желала ходить в школу. Она училась в школе для девочек, и ей не нравилось, что некоторые одноклассницы проявляли интерес к мальчикам, алкоголю и наркотикам. У нее была идея, что, если она начнет думать о ком-то из этих одноклассниц в процессе какой-либо деятельности, то станет похожей на них.
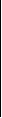
 Этот страх привел к некоторым проблемным формам поведения. Например, если мысль об одной из одноклассниц приходила ей на ум, пока Кэти надевала ботинок, она снимала его и надевала снова. Она повторяла эту процедуру до тех пор, пока не убеждалась в том, что ни одна мысль об одноклассницах не крутится в голове. Точно так же она подходила к открыванию и закрыванию дверей, включению и выключению света и разным другим делам. Поскольку одноклассницы постоянно окружали ее в школе, Кэти приходилось бороться не только со своими мыслями, но и с реальной возможностью услышать их голоса или увидеть одну из них в тот момент, когда она открывала парту или надевала спортивные туфли. Из-за этого было невыносимо находиться в классе, и она отказывалась ходить в школу.
Этот страх привел к некоторым проблемным формам поведения. Например, если мысль об одной из одноклассниц приходила ей на ум, пока Кэти надевала ботинок, она снимала его и надевала снова. Она повторяла эту процедуру до тех пор, пока не убеждалась в том, что ни одна мысль об одноклассницах не крутится в голове. Точно так же она подходила к открыванию и закрыванию дверей, включению и выключению света и разным другим делам. Поскольку одноклассницы постоянно окружали ее в школе, Кэти приходилось бороться не только со своими мыслями, но и с реальной возможностью услышать их голоса или увидеть одну из них в тот момент, когда она открывала парту или надевала спортивные туфли. Из-за этого было невыносимо находиться в классе, и она отказывалась ходить в школу.
Мы уже пять раз встречались с Кэти и ее семьей, но ситуация не изменилась. Когда родители сообщили, что двое старших детей возвращаются домой на зимние каникулы, мы договорились, что семья придет к нам в полном составе. В самом начале встречи мы разделились: один из нас (Дж. Ф.) общался с детьми, а другой (Дж. К.) — с родителями.
Из беседы с детьми я (Дж. Ф.) узнала, что оба родителя были заядлыми курильщиками, и все дети, особенно Кэти, очень беспокоились, что курение плохо влияет на здоровье родителей. Кэти приходила в ужас от мысли, что они могут умереть.
Казалось, что Кэти активнее участвовала в дискуссии о курении родителей, чем проявляла себя в другие моменты терапии, поэтому я захотела по возможности использовать этот интерес. Я спросила: "Кто будет подвергаться большей опасности — твои родители, если будут продолжать курить, или ты, если пойдешь в школу?"
Когда она ответила: "Мама и папа", я стала прикидывать, решилась бы Кэти на сделку — пойти в школу в ответ на то, что ее родители бросят курить.
Чтобы проверить свою идею, я поинтересовалась: "А не такой ли ты человек, который рискнет ради благополучия того, о ком заботится?"
Она сказала, что она именно такой человек, брат и сестра подтвердили, припомнив случай, когда она вызволила соседского младенца из запертой ванной через маленькое окошко на втором этаже.
"Если тебе придется совершить нечто опасное, поможет ли тебе то, что это реально принесет пользу тому, кто важен для тебя?" Кэти сказала, что конечно.
Я спросила: "Каким образом это поможет?", и она ответила, что польза для другого поставит вещи на свои места. У нее будет побудительный мотив встретиться с опасностью.
Я спросила: "Ты могла бы пойти в школу, если бы знала, что
это может спасти жизнь твоим родителям?" Она без колебаний от
ветила: "Да". '
Я поинтересовалась: "Что бы ты сделала, если бы взглянула на кого-то и подумала, что ты можешь стать такой, как они?" Кэти ответила: "Просто сконцентрировалась бы на работе и на том, что я там".
Я спросила: "Даже если это действительно трудно, но ты соглашаешься сделать что-то, ты — человек слова?" Она сказала, что такая она и есть.
Во время перерыва мы (Дж. К. и Дж. Ф.) посовещались и решили, что, поскольку родители готовы на все, лишь бы вернуть Кэти в школу, они, безусловно, согласятся бросить курить. Когда мы снова собрались все вместе, мы заявили, что все знают, как для родителей важно, чтобы Кэти пошла в школу. Они уже потратили на это массу времени и сил, сначала пытаясь справиться с ситуацией самостоятельно, потом встречаясь с представителями школы и, наконец, обратившись к терапии. Кроме того, мы только что обнаружили, как важно для Кэти, чтобы ее родители бросили курить, и она готова отдать свое время и энергию, чтобы это произошло. Затем мы предложили сделку, спросив Кэти, пошла бы она в школу, если бы ее родители бросили курить. Вся сияя, она согласилась. Мы спросили родителей, бросят ли они курить, если Кэти пойдет в школу. Они тоже согласились.
Когда мы встретились снова через две недели, то были потрясены, узнав, что произошло. Родители все еще курили, а Кэти ежедневно ходила в школу со дня нашей последней встречи! С этого момента Кэти продолжала ходить в школу, а родители продолжали курить. И хотя она все еще хотела, чтобы они бросили курить, но ни разу даже не сказала, что перестанет ходить в школу. Навязчивое поведение, похоже, просто пропало. Все это казалось нам весьма загадочным.
Лишь полгода спустя мы нашли осмысленное объяснение тому, что произошло. Мы начали размышлять над тем, не пережила ли Кэти в ходе мысленного поиска, отвечая на мои (Дж. Ф.) вопросы, другой "вид бытия". То есть, когда я спросила: "Что бы ты сделала, если бы взглянула на кого-то и подумала, что можешь стать
такой, как они?", могла ли Кэти живо вообразить себя в контексте школы, концентрирующейся на работе, без страха, что верх возьмут переживания9 Ее ответ: "Просто сконцентрировалась бы на работе и на том, что я там" — подразумевал именно такой опыт. Она, должно быть, ощущала себя тем, кто может рискнуть и справиться с опасными ситуациями, сконцентрировавшись на текущей задаче, вместо того чтобы позволить страху терроризировать ее. Отвечая на вопросы, она, вероятно, погрузилась в реальность, отличную от той, в которой обычно пребывала. Она, очевидно, ощущала себя тем, кто мог бы пойти в школу. Так она и сделала.
Нам было интересно знать, что случилось бы, если бы мы не были так уверены в готовности родителей сделать что угодно, чтобы вернуть Кэти в школу. Если бы мы задали им вопросы, подобные тем, что задавали Кэти, могли бы они вернуться в то ощущение себя, в котором уже не были бы курильщиками?
Этот случай стал поворотной точкой в нашем способе мышления и в практической терапии. Эриксоновская парадигма убедила нас в важности ассоциативных поисков, научения на основе опыта и альтернативных реальностей (Dolan, 1985; Erickson & Rossi, 1979, 1981; Erickson, Rossi, & Rossi, 1976; Gilligan, 1987; Rossi, 1980a, 1980b; Zeig, 1980, 1985). Тем не менее мы думали, что проживаемый опыт хранится "внутри" людей*. Мы знали, что, задавая вопросы, могли помочь людям получить доступ к "богатому ресурсами" опыту и пережить его. Например, мы могли спросить кого-то: "В какое время вашей жизни вы чувствовали себя спокойнее всего?" в надежде, что он придет к реальному опыту спокойствия (или характерному примеру такого опыта) и переживет его и будет ощущать спокойствие в настоящем.
Опыт, который мы получили при работе с Кэти, не соответствовал такому мышлению. Из предыдущих бесед было ясно, что Кэти не думала о себе как о человеке, склонном к риску. Пример со спасением соседского ребенка из ванной, рассказанный ее братом и сестрой, на самом деле мог означать для нее, что она послушна (если кто-то предложил ей сделать это), или мала ростом и проворна (поскольку смогла пролезть в окошко), или, возможно, заботлива. Но лишь в связи с моим вопросом прошлое событие начало принимать очертания рискованного поступка. Понятие "рисковать" не хранилось внутри Кэти. Она конституировала себя — возмож-
 "Помните наши беседы о "ресурсах" с Дэвидом Эпстоном и Майклом Уайтом в главе Р
"Помните наши беседы о "ресурсах" с Дэвидом Эпстоном и Майклом Уайтом в главе Р
но, впервые — как человека, готового рисковать, когда вошла в новую реальность, которую породил мой вопрос.
До этого момента мы представляли себе опыт просто как нечто, что произошло, и полагали, что все эти важные события накапливались в памяти, через которую к ним можно было получить доступ. Сейчас мы думаем, что опыт окрашивается и формируется смыслом, который они ему придают, и в зависимости от того, соответствует ли он историям, которыми живут люди, к этому опыту обращаются или нет. Следовательно, когда мы задаем вопросы, то вместо того чтобы ощущать уверенность, что люди могут извлечь опыт с заранее предопределенным смыслом, мы в высшей мере осознаем, как наши вопросы работают в соавторстве с опытом (Anderson & Goolishian, 1990b; Penn, 1982; Tomm, 1988) Они придают движение опыту, который вызывают; они предлагают начала и завершения для опытов; они выдвигают на первый план одни фрагменты опыта, в то же время затемняя или исключая другие.
Наши вопросы не ищут доступа к опыту. Они порождают его (Campbell, Draper, & Huffington, 1988; Freedman & Combs, 1993; Penn & Sheinberg, 1991). Мы вспоминаем об этом каждый раз, когда за одним из наших вопросов следует долгая пауза, после которой человек говорит: "Я никогда не задумывался об этом раньше..." или "Я не знал об этом, пока вы не задали вопрос". Это не значит, что человек не знал о чем-то; мы думаем, что это не происходило до тех пор, пока вопрос и человек не сошлись вместе, чтобы конституировать это таким образом.
Ценности терапевта формируют те вопросы, которые он задает. Так же, как и его истории о людях и терапии. Теперь, в свете этого понимания, нам представляется интересным снова взглянуть на нашу работу с Кэти. В те времена мы не уделяли особого внимания опыту Кэти, связанному с тем, что ей приходилось быть с девочками, которые интересовались мальчиками, алкоголем и наркотиками. Теперь мы были бы весьма заинтересованы в том, чтобы выяснить влияние этого опыта на нее. Мы бы заинтересовались, создавали ли социальные затруднения и ожидания атмосферу, которая была невыносима для нее и угрожала ее ощущению себя как человека. Если бы мы задавали вопросы в этом направлении, было бы интересно выяснить, отличалось ли то, как семья Кэти представляла девочку и ее проблему, от того, как она сама думала о себе. Теперь мы убеждены в том, что, в сущности, вступили в заговор с социальными затруднениями, чтобы заставить ее посещать шко-
 лу, не признавая, что она считала эти затруднения невыносимыми. Если бы мы могли перенестись назад во времени, то заинтересовались бы тем, могли бы мы заручиться поддержкой семьи в борьбе против социальных затруднений. Избегая школы, Кэти нашла способ не позволять социальным затруднениям довлеть над ней. Интересно, могли бы мы принести ей больше пользы, если бы задавали вопросы о том, как ей удалось бы это осуществить (или о способах, с помощью которых она могла бы достичь этого), пребывая в школе*.
лу, не признавая, что она считала эти затруднения невыносимыми. Если бы мы могли перенестись назад во времени, то заинтересовались бы тем, могли бы мы заручиться поддержкой семьи в борьбе против социальных затруднений. Избегая школы, Кэти нашла способ не позволять социальным затруднениям довлеть над ней. Интересно, могли бы мы принести ей больше пользы, если бы задавали вопросы о том, как ей удалось бы это осуществить (или о способах, с помощью которых она могла бы достичь этого), пребывая в школе*.
В этой работе мы надеемся показать, что знание людей, с которыми мы работаем, обладает приоритетом по отношению к нашему знанию. Поэтому для нас столь важно осознавать, что наши вопросы оказывают влияние на направление, которое принимает беседа. Один из способов уравновесить влияние наших вопросов состоит в том, что мы периодически задаем вопросы, которые побуждают людей оценить процесс. Например, мы спрашиваем: "Это именно то, о чем вам хотелось бы поговорить?" и "Эта беседа помогает вам? Как она помогает вам?" Мы'модифицируем вопросы, согласуясь с ответами. Кроме того, мы задаем вопросы о наших вопросах, например: "Были ли такие вопросы, которые показались более полезными, и другие, которые вы не находите полезными? Почему?" И опять уделяем внимание ответам.
Признавая влияние вопросов на определение сферы "подходящих" ответов, мы полагаем, что взаимодействие преимущественно через вопросы помогает нам сохранять приоритет знания людей, с которыми работаем. Как пишет Карл Томм (1988):
"В целом высказывания утверждают темы, позиции или взгляды, тогда как вопросы порождают темы, позиции или взгляды. Иными словами, вопросы взывают к ответам, а высказывания обеспечивают их".
В другой работе Карл Томм (1987а) напоминает: несмотря на то, что, задавая вопрос, мы можем держать в уме определенную идею, человек, который отвечает на него, определяет, какое направление она примет. Он пишет:
 *В этой критике своей работы мы пытаемся выразить, что сами являемся частью территории, где доминирует принцип "знание — сила" Мы не можем полностью находиться вне доминирующих практик, но можем взять на себя ответственность за работу, позволяющую видеть сквозь истории, доминирующие в культуре Для этого нам необходимо деконструировать свои практики и поместить свои идеи в сферу опыта
*В этой критике своей работы мы пытаемся выразить, что сами являемся частью территории, где доминирует принцип "знание — сила" Мы не можем полностью находиться вне доминирующих практик, но можем взять на себя ответственность за работу, позволяющую видеть сквозь истории, доминирующие в культуре Для этого нам необходимо деконструировать свои практики и поместить свои идеи в сферу опыта
Г54
". ..Реальный эффект любой конкретной интервенции с клиентом всегда определяется самим клиентом, а не терапевтом. Намерения и последующие действия терапевта лишь приводят в действие реакцию; они никогда не определяют ее".
Как было сказано в главе 3, в своей работе мы стремимся придерживаться того, что Гарри Гулишиан и Харлен Андерсон называют позицией "не-знания". Мы стараемся не задавать вопросы, на которые у нас есть "те самые" ответы, или такие, на которые иъ\ хотим получить определенные ответы. То есть мы не задаем вопросы с позиции предпонимания (Andersen, 1991a; Weingarten, 1992).
Отдавая должное позиции любознательности и незнания, следует сказать, что у нас действительно есть намерения или цели. Мы думаем, что все терапевты следуют некоему типу намеренности (интенциональности), даже если их цель имеет весьма общий характер, например "открытие пространства". Наши намерения более специфичны. Мы надеемся вовлечь людей в деконструкцию проблемных историй, определение предпочтительных направлений и развитие альтернативных историй, которые поддерживают эти предпочтительные направления. Нарративная метафора формирует нашу любознательность, но не подавляет ее.
Хотя мы посвятили эту главу примерам "типов" вопросов и их структуре, можно найти несколько причин, чтобы не приводить эти примеры и структуру. Во-первых, вопросы будут отчуждены от контекста. Каждый вопрос, который мы задаем в ходе терапии, вытекает из того, что было сказано в беседе. Фокусируясь на определенных типах вопросов, а не на живой беседе, мы порой забываем, что любой вопрос может принести пользу лишь в определенных контекстах. Взглянув на любую из стенограмм, приведенных в этой книге, вы можете заметить, что мы не задаем точно такие вопросы, которые приводим здесь в качестве примеров. Наши вопросы откликаются на минимальные, пошаговые изменения в беседе, и мы не следуем идеализированным структурам, которые здесь предлагаем.
Во-вторых, примеры иллюстрируют лишь слова, но не тон голоса, не жест или взаимоотношения. Реакции людей гораздо богаче, чем просто слова. Как предполагают Карл Томм (1988) и Мелисса Гриффит (1992а, 1994), огромную роль играет эмоциональное состояние того, кто задает вопросы. Мы стремимся задавать вопросы с позиций уважения, заинтересованности и открытости,
155 '
но едва ли это можно адекватно выразить на бумаге. Мы надеемся, что, читая эти примеры, вы подберете нужный тон.
В-третьих, мы знаем, что некоторые люди следуют примерам, как если бы они были руководством к действию. Наши примеры определенно для этого не предназначены, и мы искренне надеемся, что они не ограничат ваше творчество.
Вопреки всем своим сомнениям, предлагаем следующие примеры. Переход от сбора информации к порождению опыта требует неимоверных усилий, и не каждому, кто в этом заинтересован, его осуществить. Для нашего собственного обучения чрезвычайно полезным оказалось изучение вопросов, порождающих смысл, разработанных другими людьми*. Таким образом, мы останавливаем время и рассматриваем все вопросы по очереди.
Использование нарратива в качестве ведущей метафоры — еще один серьезный концептуальный и практический сдвиг, требующий особых вопросов. Координация любопытства и нарративной метафоры с одновременным учетом взаимоотношений поначалу представляется неким жонглированием. Хотя на практике все они работают вместе, очень полезно рассматривать эти компоненты по отдельности.
Мы предлагаем эти примеры, отвечая на запрос слушателей наших обучающих программ, утверждающих, что полезно иметь перед собой примеры, к которым можно добавлять свои собственные, а наличие категорий помогает организовать свои мысли. Другими словами, для многих примеры и категории служат дополнением к практике и обучению.
Мы решили, что полезно разделить вопросы, используемые в этом процессе, на пять основных категорий: деконструктивные, открывающие пространство, предпочтительные, развивающие историю и смысловые. Границы этих категорий размыты. К примеру, определенный вопрос может как открывать пространство, так и приводить к конструированию нового смысла. Кроме того, терапевт может предполагать, что вопрос побудит кого-то выразить свое предпочтение, а человек, тем не менее, может отреагировать ответом, который начинает развивать альтернативную историю.
 'Копии следующих статей (с загнутыми уголками страниц), в каждой из которых предлагаются категории и примеры вопросов, были чрезвычайно полезны в процессе нашего обучения: White, 1988a, 1988b (обе эти статьи содержатся в White, 1989); Tomm, 1987a, 1987b, 1988. Кроме того, неоценимую помощь могут оказать стенограммы, опубликованные в статьях Дэвида Эпстона— см Epston, 1989a, Epston & White, 1992.
'Копии следующих статей (с загнутыми уголками страниц), в каждой из которых предлагаются категории и примеры вопросов, были чрезвычайно полезны в процессе нашего обучения: White, 1988a, 1988b (обе эти статьи содержатся в White, 1989); Tomm, 1987a, 1987b, 1988. Кроме того, неоценимую помощь могут оказать стенограммы, опубликованные в статьях Дэвида Эпстона— см Epston, 1989a, Epston & White, 1992.
Приводимые нами категории относятся к намерениям терапевта при постановке вопроса. Они предназначены для того, чтобы помочь терапевту ясно осмысливать процесс нарративной терапии. Тогда как порядок, в котором мы приводим эти примеры, действительно следует определенной линейной логике. Задавая вопросы в реальной беседе, мы не следуем строгому порядку.
Деконструктивные вопросы
Деконструктивные вопросы помогают людям "распаковать" свои истории или увидеть их под другим углом зрения так, чтобы стало очевидным то, как они сконструированы. Многие деконструктивные вопросы побуждают людей помещать свои нарративы в более широкие системы и развивать их во времени. Порождая историю, контекст и влияние нарративов людей, мы расширяем их кругозор, изображая полный ландшафт, который поддерживает проблемы. В рамках этих расширенных ландшафтов может появиться больше разнообразных "ярких событий".
Выявление проблемных убеждений, практик, чувств и установок
Почти весь деконструктивный опрос происходит в рамках экстер-нализующей беседы. Хотя мы стремимся деконструировать проблемные нарративы, ни один из конкретных вопросов не относится к нарративу в целом. Каждый вопрос обращен к чему-то, что является частью проблемно-насыщенной истории или поддерживает проблемный нарратив. В общем случае, слушая проблемные нарративы, мы получаем информацию об убеждениях, практиках, чувствах и установках, и именно к ним обращен конкретный деконструктивный вопрос. Если в ходе изложения истории мы ничего не узнаем об убеждениях, практиках, чувствах и установках человека, можно задать вопросы, которые помогут выявить их. К числу таких вопросов могут относиться:
• К каким заключениям о ваших взаимоотношениях вы при
шли в результате этой проблемы?
• К каким формам поведения вы стали прибегать в связи с
ситуацией, которую вы описали?
•  Пробуждает ли у вас особые чувства ситуация, которую
Пробуждает ли у вас особые чувства ситуация, которую
вы описали?
• Как вы думаете, какие установки могли бы оправдать/
объяснить те формы поведения, которые вы описали?*
• Что стоит на пути развития тех взаимоотношений, кото
рые вы хотели бы иметь?
По мере того как эти вопросы помогают людям различить конкретные убеждения, практики, чувства и установки, мы спрашиваем о следующем.
1. История взаимоотношения человека с этим убеждением, прак
тикой, чувством или установкой.
2. Контекстуальные влияния на это убеждение, практику, чувство
или установку.
3. Последствия или результаты этого убеждения, практики, чув
ства или установки.
4. Взаимосвязь с другими убеждениями, практиками, чувствами
или установками.
5. Тактики или стратегии этого убеждения, практики, чувства
или установки.
Мы задаем все эти вопросы в контексте экстернализующей беседы. Заметили ли вы, что каждый из типов вопросов предполагает, что убеждение, практика, чувство или установка изолированы от человека, и таким образом еще больше их экстернализует? Обычно мы используем экстернализирующий язык, деконструируя проблемно-насыщенные нарративы. Это настолько важная часть деконструкции, что мы часто формулируем вопросы с единственной целью — завязать экстернализующую беседу. Большинство вопросов, выстраиваемых исключительно с экстернализующим намерением, поневоле затрагивают по крайней мере еще одну из областей, которые мы определили. И наоборот, все вопросы из других областей служат цели экстернализации, независимо от того, совпадает это с сознательными намерениями терапевта или нет.
 "Глядя на некоторые из этих вопросов, напечатанные на бумаге, можно подумать, что мы были вовлечены в серьезную конфронтацию. Это не так. Использование экстернализующего языка дает возможность искать ответы на эти вопросы вместе с людьми, с которыми мы работаем
"Глядя на некоторые из этих вопросов, напечатанные на бумаге, можно подумать, что мы были вовлечены в серьезную конфронтацию. Это не так. Использование экстернализующего языка дает возможность искать ответы на эти вопросы вместе с людьми, с которыми мы работаем
Для деконструкции нарративов можно использовать не только пять описанных категорий деконструктивных вопросов. Просто в своей практике мы чаще всего применяем именно эти типы вопросов. Побуждая к деконструкции нарратива, мы задаем много подобных вопросов. Вопрос об одном убеждении, чувстве, практике или установке приводит к другому убеждению, чувству, практике или установке. Поэтому далее мы спрашиваем уже о другом опыте, как иллюстрирует краткий отрывок из терапевтической беседы.
Я (Дж. Ф.) работала с Луиз, которая перешла на новую работу и готовилась к переменам.
—Некоторые коллеги подходили ко мне и говорили, что мне не
следует говорить коллегам на моей новой работе, что я наполови
ну афроамериканка, — сказала она мне.
—Что вы думаете об этом? — спросила я.
—Я думаю, они правы, — заявила она. — Это не пойдет мне на
пользу. Люди будут считать меня черной, и у них будут предубеж
дения против меня, а поскольку я не похожа на черную, черные
тоже не примут меня за свою.
—Я в затруднительном положении... Мне ничего не известно о
вашем опыте. Могу я задать вам еще несколько вопросов об этом?
—Конечно.
—Хорошо, как вы думаете, какими убеждениями или установ
ками должен руководствоваться человек, предполагающий, что
людям не следует знать, что вы полукровка?
—Люди, которые говорили мне это, были черными, и я, соглас
на с ними. Черные люди более неотесанны и грубы.
—Я сама ничего подобного не замечала, но могу я спросить вас
о другой стороне этого дела? Как вы думаете, какое влияние на вашу
жизнь окажет сокрытие вашего происхождения?
—Я не стыжусь того, кто я есть. Я имею в виду, что мне не
обязательно было говорить об этом на моей предыдущей работе.
—Да, но я отнюдь не собираюсь диктовать, что вам следует
делать. Да я и не знаю. Мне просто интересно, если вы будете
держать это в секрете, как это на вас повлияет?
—Возможно, это будет удерживать меня на расстоянии от лю
дей. Может быть, ухудшит мое ощущение от того, что я — черная.
Мне всегда нравилось быть черной.
Учитывая, что мы используем несколько этих вопросов вместе, как видно в приведенном отрывке, давайте рассмотрим каждую из наших пяти категорий деконструктивных вопросов по отдельности.
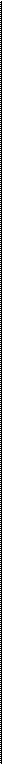
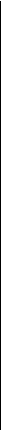
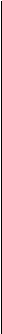 Тактики или стратегии. Поскольку мы относимся к проблемным убеждениям, практикам, чувствам и установкам как к экстернали-зованным сущностям, мы можем размышлять об их планах и предпочтительных методах функционирования. Разоблачение этих тактик и стратегий может оказать мощный деконструктивный эффект.
Тактики или стратегии. Поскольку мы относимся к проблемным убеждениям, практикам, чувствам и установкам как к экстернали-зованным сущностям, мы можем размышлять об их планах и предпочтительных методах функционирования. Разоблачение этих тактик и стратегий может оказать мощный деконструктивный эффект.
• Как гнев вкрадывается между вами двумя?
• Если бы я решил стать вашим страхом, что мне пришлось
бы сделать, чтобы о моем присутствии знали? Каким об
разом я ухудшал бы положение? Какие моменты времени
я выбирал бы?
• Что нашептывает вам на ухо голос депрессии? Как ему уда
ется достичь такой убедительности?
• Что булимия делает сначала: крутит картинки этих черто
вых пышных пирожных перед вашими глазами или дает вам
почувствовать этот специфический вкус во рту?
• Какие образы жизни позволяют расизму "оседлать" себя?
 2015-04-30
2015-04-30 726
726








