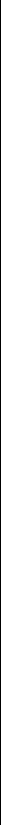 рия политич. учений, М., 1960, с. 454—64; История политич.
рия политич. учений, М., 1960, с. 454—64; История политич.
учений, М., 1965, с. 331 — 34. В. Зверев. Ленинград.
СПЕШНЕВ, Николай Александрович (1821 — 17 марта 1882) — один из первых рус. представителей утопич. коммунизма, член кружка петрашевцев. Учился в Царскосельском лицее вместе с Петрашев-ским. Будучи в Швейцарии, участвовал в войне прогрессивных кантонов против реакц. Зондербунда. В Париже, видимо, встречался с Марксом (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 2, 1929, с. 417). За границей (1842—46) С. изучал нем. классич. философию, историю Великой франц. революции, социалистич. и коммунистич. доктрины, подготавливал труд по истории и организации тайных обществ (в частности, применительно к России; о проекте обязательной подписки для членов тайного об-ва — см. «Дело петрашевцев», т. 3, 1951, с. 445). Вернувшись в Петербург, С. возобновил знакомство с Петрашев-ским и вскоре выступил инициатором перехода петрашевцев к непосредств. революц. действию, в т. ч. организации тайного об-ва и подпольной типографии. Непосредств. целью такого об-ва С. считал подготовку восстания с целью уничтожения крепостнич. строя и установления демократич. республики. В 1849 С. был арестован и приговорен к смертной казни, к-рая была заменена каторгой.
|
|
|
По своим филос. и социологич. взглядам С.— убежденный материалист и атеист (см. Филос. и обществ.-политич. произв. петрашевцев, М., 1953, с. 477—502). С. подверг критике идеалистич. антропологизм («антро-потеизм»), к-рый определял как новую, утонченную разновидность религии; антропотеизм, по С, поставив на место бого-человека человеко-бога, изменил лишь предмет обожествления; религиозная же, авторитарная сущность идеи осталась неизменной. Антропотеизм, ио С,— переходный этап к полному отрицанию религии. Гносеологич. идеи С. имеют материали-етич., в основном сенсуалистич. характер. С. критиковал узкий эмпиризм, подчеркивал взаимодействие практики (опыта) и теории (умозрения).
Утверждая идею закономерности в развитии общества, С. не выделял к.-л. единого фактора этого развития. С. считал частную собственность гл. причиной социальной несправедливости. Он проповедовал идею создания коммунистич. общин на базе имеющегося обществ, богатства, «распределение продуктов труда по потребностям каждого».
С о ч.: в кн.: Петрашевцы. Сб. материалов, т. 3, М.— Л., 1928; Письмо к отцу 24 октября 1838, «Каторга и ссылка», 1930, кн. 1 (62).
Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд.. т. 7. с. 26; Пле
ханов Г. В., Соч., т. 23, М.—Л., 1926, с. 247; Гер
цен А. П., Собр. соч., т. 9, М., 1956, с. 330; т. 10, М., 1956,
с. 335, 343—46; т. 17, Я., 1959, с. 106—07; т. 18, М., 1956,
с. 191, 244, 370; т. 19, М., 1960, с. 193; Л е й к и н а В. Р.,
Петрашевец Н. А. С, «Былое», 1924, № 25, с. 12—31; История
философии в СССР, т. 2, М., 1968; см. также лит. при ст.
Петрашевский, Петрашевцы. В. Евграфов. Москва.
|
|
|
СПЙКМЕН (Spykman), Николас Джон (13 окт. 1893—26 июня 1943) — амер. бурж. социолог. Род. в Амстердаме, с 1920 жил в США. Проф. Иельского ун-та (с 1923), организатор и первый директор Иельского ин-та по изучению междунар. проблем. Один из создателей амер. концепции геополитики. С. утверждал, что отношения между странами строятся на основе их мощи. Эта концепция приобрела влияние в политич. кругах США.
Соч.: America's strategy in world politics, N.Y., 1942; The social theory of G. Simmel, N.Y., 1966.
СПИНОЗА (Spinoza, d'Espinosa), Бенедикт (Барух) (24 ноября 1632—21 февр. 1677) — нидерл. философ-материалист, пантеист и атеист. Род. в Амстердаме в семье купца, принадлежавшего к евр. общине. Возглавив после смерти отца (1654) его дело, С. одновременно завязал научные и дружеские связи вне евр. общины Амстердама, особенно среди лиц, оппо-

|
зиционно настроенных по отношению к господствовавшей в Нидерландах кальвинистской церкви. Большое влияние на С. оказал его наставник в лат. яз. ван ден Энден, последователь Ванини, антимонархист и сторонник демократич. преобразований, а также Акоста — представитель евр. вольномыслия. Руководители евр. общины Амстердама подвергли С. «великому отлучению» (херем). Спасаясь от преследований со стороны руководителей евр. общины, а также амстердамского магистрата, С. жил в деревне, вынужденный зарабатывать шлифовкой линз, затем в Рейн-сбурге, предместье Гааги, где и создал свои филос. произведения.
В борьбе против олигархич. руководства евр. общины С. стал решит, противником иудаизма («Богословско-политич. трактат», в кн.: Избр. произв., т. 2, М., 1957, с. 60—62). Близостью С. кмелко-бурж. движению рейнсбургских сектантов-пантеистов (отчасти и англ. квакеров) объясняются отзвуки нек-рых идей утопич. коммунизма в его соч. (см. там же, т. 1,М.,1957,с. 323—24,583—84 и т. 2, с. 51, 559—60). В идейно-политич. воззрениях С, сторонника респ. правления и противника монархии, отразилась также его близость к партии де Витта (ученого математика п фактич. главы тогдашнего нидерл. гос-ва), к-рая боролась против оранско-монархич. партии.
Филос. воззрения С. складывались первоначально под влиянием евр. ср.-век. философии (Маймонид, Крескас, Ибн Эзра). Ее преодоление явилось результатом усвоения С. пантеистическо-материалистич. воззрений Бруно, рационалистич. метода Декарта, меха-нистич. и математич. естествознания, а также философии Гоббса, оказавшего наибольшее влияние на социологич. доктрину С. Опираясь на механико-матема-тич. методологию, к-рую он считал единственно научной, С. стремился к пониманию «...первопричины и происхождения всех вещей» (там же, т. 2, с. 388). При этом создание целостной картины природы С. мыслил как одновременное раскрытие генезиса всех предметов и явлений. Продолжая традиции пантеизма, С. сделал центр, пунктом своей онтологии тождество бога и природы, к-рую он понимал как единую и единственную, вечную и бесконечную субстанцию, исключающую существование к.-л. др. начала, и тем самым — как причину самой себя (causa sui). Признавая реальность бесконечно многообразных отд. вещей, С. рассматривал их как совокупность модусов — единичных проявлений единой субстанции.
В этой связи С. выдвинул знаменитое диалектич. положение: «...ограничение есть отрицание...» (там же, с. 568): всякая вещь в качестве модуса, в ее определенности должна мыслиться как результат ограничения бесконечной субстанции.
Осмысливая целостность природы, С. разработал категории целого и части, раскрывающие универсальное соответствие природных вещей друг другу. В противоположность многим своим современникам С. считал невозможным разложить целое на части (см. там же, с. 525) и полагал, что следует, наоборот, идти от целого к его частям. Вместе с тем С. не преодолел механистпч. воззрения на явления и процессы природы лишь как результат пространств, перемещения вещей. В его онтологии т. зр. актуально бесконечной субстанции, вне времени порождающей мир своих модификаций и трактуемой как порождающая природа (naturanaturans), сочетается с т. зр. потенциально бесконечных единичных вещей, изменяющихся
|
|
|
СПИНОЗА 113
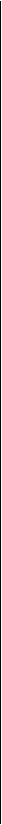 во времени и истолкованных как порожденная природа (natura naturata).
во времени и истолкованных как порожденная природа (natura naturata).
Качеств, характеристика субстанции дается у С. в понятии атрибута как неотъемлемого свойства субстанции. Число атрибутов в принципе бесконечно, хотя конечному человеческому уму открываются только два из них — протяжение и мышление. В противоположность Декарту, дуалистически противопоставлявшему протяжение и мышление как две самостоят. субстанции, монист С. видел в них два атрибута одной и той же субстанции.
При рассмотрении мира единичных вещей С. выступал как один из наиболее радик. представителей детерминизма и противников телеологии, что было высоко оценено Энгельсом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 20, с. 350). Вместе с тем, истолковывая детерминизм только как механистический, отождествляя причинность с необходимостью и рассматривая случайность только как субъективную категорию, С. приходил к т. зр. механистич. фатализма. С. был убежден в том, что весь мир представляет собой математич. систему и может быть до конца познан геометрич. способом. По замыслу С. бесконечный модус движения и покоя должен связывать мир единичных вещей, находящихся во взаимодействии друг с другом, с субстанцией, мыслимой в атрибуте протяженности. Др. бесконечным модусом является бесконечный разум (intellectus infinitus), к-рый должен связывать мир единичных вещей с субстанцией, мыслимой в атрибуте мышления. С. утверждал, что в принципе одушевлены все вещи, хотя и в различной степени. Однако осн. свойство бесконечного разума — «познавать всегда все ясно и отчетливо» (Избр. произв., т. 1, с. 108) — относилось у С. лишь к человеку.
|
|
|
С. натуралистически-материалистически истолковывал человека как часть природы, рассматривая с этой т. зр. его тело и душу. Понимая душу как частицу «бесконечного разума бога» (см. там же, с. 412), С. определял ее как идею, объектом (идеатом) к-рой является человеческое тело. Фактически душа состоит всегда из совокупности идей. С. решал психофнзич. проблему в духе взаимной независимости телесных и духовных действий человека, выводимой из онтоло-гич. независимости двух атрибутов субстанции. Это воззрение сочеталось у него с материалистич. тенденцией в объяснении мыслит, деятельности человека, связанной с концепцией единой субстанции. Зависимость мыслит, деятельности человека от его телесного состояния обнаруживается, согласно С, на стадии чувственного познания. Последнее С. определял как представление или воображение (imaginatio) и счптал единств, источником смутных идей. Чувственное познание составляет первый род знания, называемый также мнением (opinio). Он распадается на два способа восприятия: через беспорядочный опыт (ab ехре-rientia vaga) и понаслышке (ex auditu). Без опыта, по С, невозможна повседневная жизнь людей; на нем основываются и такие науки, как медицина п педагогика. Однако, будучи сторонником рационализма, С. невысоко расценивал теоретич. значение одного лишь опытного, чувственного познания, связывая именно с ним заблуждение. Считая, что любое заблуждение заключает в себе известный элемент истины, С. определял ложную идею как неадекватную, поскольку она претендует быть истиной полной и завершенной, а в действительности отражает свой объект лишь частично, в том или ином аспекте, в соответствии с чувственной детерминацией. Критика С. ограниченности чувственного знания дополняется критикой знания абстрактного, к-рое основывается как на восприятии из беспорядочного опыта, так и на восприятии понаслышке. С. дал глубокую критику схоластич. всеобщих понятий, или универсалий (notiones uni-
versales)— примера несовершенства обобщений, основанных на чувственном опыте. Критика схоластики перерастает здесь у С. в критику злоупотреблений языком. Считая слова «знаками вещей», как они «...существуют в воображении, а не в разуме...» (там же, с. 350), С. призывал различать «образы, слова и идеи» и уточнять филос. терминологию, чтобы избежать неправильного применения названий к вещам.
Рационализм С. с наибольшей силой проявлялся в противопоставлении им понимания (intellectio) как единств, источника достоверных истин чувственному познанию. Понимание выступает у С. как второй род познания, составляющий рассудок (ratio), а также разум (intellectus). Только на этой стадии возможна адекватная истинность, выражающаяся в общих понятиях (notiones communes). Последние принципиально отличаются от чувственных идей представления тем, что относятся к геометрич. и механич. свойствам тел, т. е. к тому, что можно было бы назвать первичными качествами. Всеобщие же и абстрактные понятия, пли универсалии, выражают лишь наше чувственное отношение к ним. Достижение адекватных истин становится, по С, возможным в силу того, что человеческая душа как модус атрибута мышления единой субстанции способна постичь все, что вытекает из последней. Оно возможно также в силу основоположного тезиса рационалистич. панлогизма, отождествляющего принципы мышления с принципами бытия: «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» (там же, с. 407). Адекватная истинность предполагает связность всех истин в разуме, к-рый, в отлпчие от случайных ассоциаций представления, основывающихся на памяти, развивает свои положения по строгим законам дедукции, действуя как «некий духовный автомат» (см. там же, с. 349).
Третий род познания составляет интуиция, являющаяся фундаментом достоверного знания. Генетически учение С. об интуиции связано с учениями ми-стич. пантеизма о «внутреннем свете» как источнике недискурсивного, непосредств. общения с богом и с учением Декарта об аксиомах «ясного и отчетливого ума» как выражении его «естественного света» и фундаменте всего прочего знания. При этом картезианское понимание интуиции взяло верх в филос. развитии С: интуиция истолковывается им как интеллектуальная. Адекватная идея, достигаемая благодаря деятельности интуиции и дедукции, выражает свою истинность в аналитич. суждениях. Последние преодолевают скептицизм и доставляют имманентный критерий истинности: «Как свет обнаруживает и самого себя п окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя и лжи» (тамже, с. 440). С помощью интуиции как целостного знания, дающего понятие общего, возможно адекватное познание частного. Интуиция дает познание вещей sub specie aeternitatis (с т. зр. вечности) — не как случайных и разрозненных предметов, изменяющихся во времени и такими представляющихся нашему воображению, а как абсолютно необходимых, тождественных целому модусов единой субстанции.
В антропологии С. отвергает идею свободы воли, к-рой придерживался Декарт. Воля совпадает у С. с разумом. Распространяя на человеческое поведение законы механистич. детерминизма, С. доказывал необходимый характер всех без исключения действий человека. В аффектах, или страстях, проявляется порабощенность человека, неосознанная зависимость от внешних обстоятельств его жизни; на уровне представления эта зависимость иллюзорно воспринимается сознанием как свобода. С. противопоставлял свободу не необходимости, а принуждению. Одновременно он обосновывал диалектич. идею о
 2015-05-06
2015-05-06 303
303








