В этом месте внимательный читатель снова может упрекнуть нас в том, что ускользающий феномен доверия вновь растворился (в принципиальной непрозрачности другого), так как оказался вполне сводимым к духовной близости (основанному на способности приписывать сообществу единство в плане определенной совокупности сильных оценок — совокупности, именуемой гражданским сознанием, у Дюркгейма — формами современной солидарности и т.д.). Но представлять себе дело подобным образом значит смешивать два разных значения понятия духовной близости. Одно из них — это некая самостоятельная разновидность безусловности (остающаяся таковой независимо от того, идет ли речь о системах основанных на родственных связях, или о системах, организованных по принципу религиозных объединений), другое же — это механизм поддержания системы уверенности (реализуемый при любых определениях генерализованного обмена и безусловности). Именно последнее значение духовной близости представляет для нас чрезвычайный интерес. В противовес Дюркгейму, стремившемуся применительно к современности преобразовать определение духовной близости (исходя при
|
|
|
■:■ ' "■'•rJl: Доверие... 105
этом из понятия индивида), наша цель доказать, что понимаемое таким образом духовная близость — именно потому, что оно основано на деятельности индивидуальных акторов — должно включать в себя элемент доверия между акторами в качестве характерного для данного типа общества принципа безусловности. Таким образом, безусловное в современной жизни определяется не только духовной близостью как общностью сильных оценок (оценок индивидуалистических), но и феноменом доверия, вызванным к жизни данным конкретным характером духовной близости. Следовательно, применительно к современности понимание присущих обществу безусловностей невозможно ограничивать представлением об общности сильных оценок (то есть духовной близостью), в это понимание необходимо включить и понятие доверия, а то и другое вместе несводимо только к духовной близости (то есть к деятельности другого). В этом и заключается серьезнейшая проблема, стоящая перед современными формами социальной организации, и неизвестно, удастся ли нам ее разрешить. Ведь доверие предъявляет к акторам слишком высокие требования — даже более высокие, чем вера (отсюда наблюдаемый в наше время возврат к альтернативным формам духовной близости, таким как религиозные, родственные, тендерные или этнические объединения).
Каким бы ни было содержание современного кризиса доверия (об этом будет идти речь в последней главе), конкретное наполнение понятия безусловности в современном обществе демонстрирует интересную динамику в том, что касается функции духовной близости как механизма реализации присущих обществу безусловностей. Ибо если верно, что дружба (или даже любовные отношения) служат, как мы уже утверждали раньше, моделью той изначальной формы доверия, которая ассоциируется нами с современными формами безусловности, то не менее верно и то, что, как сказал Джефри Хоторн, «межличностное доверие в его современном виде не может служить моделью для долговременных доверительных отношений, отношений кооперации*. между незнакомцами... подобная возможность возникает тогда и только тогда, когда отношения между ними имеют упрощенный, стилизованный, символический характер, когда им придают ритуализованное выражение — то есть, когда они превращены в обычай».58 Это означает, что такие отношения возможны, только когда они институциализированы в составе системы взаимных ожиданий, а именно это и достигается с помощью принципов генерализованного обмена, играющих роль ограничителей свободного рыночного обмена. Когда такая система нарушает собственные присущие ей ограничения (ролевые конфликты, неоднозначные обязательства и т.п.), недостаток уверенности в ней мы возмещаем предполагаемым духовной близостью (во втором понимании этого термина — в смысле механизма и не более того) — духовной близостью, основанным на приписывании системе единых с нашими собственными сильных оценок, что, в свою очередь, становится возможным при наличии объединяющих нас безусловностей (в данном случае, речь
|
|
|
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
 идет о безусловном признании деятельности индивида, то есть о доверии). Проецировать же вовне себя самих подобные сильные оценки (исходя из того, что нас объединяет моральная приверженность безусловному принципу индивидуальной деятельности) нам позволяет существование — на уровне индивидуального действия, а отнюдь не на уровне системной организации — духовной близости во втором смысле (то есть духовной близости как механизма насаждения свойственных обществу безусловностей). Таким образом, единство структурных подходов к разделению труда дает возможность использовать духовная близость, понимаемое во втором смысле, для взаимного проецирования безусловности доверия и деятельности.59
идет о безусловном признании деятельности индивида, то есть о доверии). Проецировать же вовне себя самих подобные сильные оценки (исходя из того, что нас объединяет моральная приверженность безусловному принципу индивидуальной деятельности) нам позволяет существование — на уровне индивидуального действия, а отнюдь не на уровне системной организации — духовной близости во втором смысле (то есть духовной близости как механизма насаждения свойственных обществу безусловностей). Таким образом, единство структурных подходов к разделению труда дает возможность использовать духовная близость, понимаемое во втором смысле, для взаимного проецирования безусловности доверия и деятельности.59
Поскольку данная аргументация несколько сложна, рассмотрим ее поподробней. Утверждается, что духовная близость существует в двух формах: Форма № 1 — собственно базис социальной солидарности; Форма №2 — всего лишь механизм, приспособленный к структурным особенностям разделения труда, механизм, позволяющий насаждать тот или иной безусловный принцип, связывающий общество в единое целое, а значит являющийся условием его солидарности. В современную эпоху, характеризующуюся высокой степенью системной дифференциации и развитым разделением труда, условия социальной солидарности включают в себя: (а) духовная близость в смысле общности сильных оценок (в данном конкретном случае, речь идет об общности оценки морального индивидуализма, гражданского сознания и других присущих современности безусловностей, ассоциируемых с индивидуальной деятельностью); а также (б) элемент доверия в отношении того, что нельзя причислить к разряду единых для всех сущностей. Именно в этом пункте содержится радикальное отличие современности ото всех предшествующих форм социальной организации. Ибо, хотя условия духовной близости различны в различных общественных формациях (напомним, что это духовная близость может основываться на родоплеменных связях, на трансцендентных религиях или на общности отношения к оценкам и деятельности индивида) только современность дает такую форму организации, при которой лежащая в основе социальная солидарность базируется не только на духовной близости как общности сильных оценок (у Дюркгейма это именуется индивидуализмом), но и на доверии к неизвестному и (структурно) непознаваемому другому. Оба эти аспекта современной солидарности отличаются от современного облика духовной близости как механизма насаждения системной уверенности (присутствующего и в других современных формах социальной организации).
|
|
|
Я считаю, что в представлениях самого Дюкргейма о роли социальной солидарности в современном мире содержится некоторое, пусть неполное, осознание того, что понятие духовной близости обладает двойным смыслом. Ибо Дюркгейм не только явился автором нового определения духовной близости (в первом смысле), то есть определения его через те сильные оценки и безусловности, которые существуют в обществе, основанном уже не на род-
Доверие... 107
ственных связях, а на гражданском сознании, ключевым понятием которого является индивид как ценность. Появление этих новых сильных оценок Дюр-кгейм считал следствием углубления разделения труда и дифференциации ролей; он вполне сознавал необходимость установления таких организационных структур, с помощью которых можно будет использовать духовная близость во втором смысле в качестве механизма насаждения новых безусловностей (обозначаемых им термином «солидарность»). Роль таких организационных структур должны были, по его замыслу, выполнять вторичные группы и посреднические ассоциации, «семейные, профсоюзные и профессиональные объединения, церковные, региональные центры [способные]... поглотить личности своих членов» и тем самым приобщить их к новому типу солидарности (или безусловностей), главной моральной ценностью которой является индивид.60 Таким образом, подобные ассоциации будут выступать в качестве источников духовной близости во втором смысле, т. е. в качестве механизма формирования тех — основанных на индивидуальной деятельности и индивидуальной автономии — сильных оценок, которые Дюкргейм считал конституитивным элементом современной солидарности.
|
|
|
Итак, доверие к деятельности индивидуальных акторов, являясь одним из аспектов безусловного генерализованного обмена, должно — при выполнении роли той «смазки», благодаря которой возможно создание составляющего основание жизни ассоциаций социального капитала — опираться на духовная близость (в первом смысле). Вот почему так трудно концептуализировать его как частную форму безусловности, вот почему оно так часто выступает в качестве общей модели всех вообще безусловных генерализованных принципов обмена (здесь же заключено и объяснение тому, почему его так часто путают с духовной близостью, независимо оттого, основано ли это последнее на кровном родстве или на других формах ассоциаций). Эта склонность особо «полагаться» на духовная близость порождает к тому же особые сложности реализации данной модели в ряде современных обществ.
«Вторжение» духовной близости в сферу действия доверия также чревато размыванием различия между «первородным» или чистым доверием и доверием как разновидностью генерализованного обмена. Думаю, именно неразличение того и другого явилось коренной ошибкой Дюркгейма. Ведь оба эти выражения принципов безусловности в обществе (как две разные ипостаси генерализованного обмена) не сводимы одно к другому; к тому же сосуществование их отнюдь не является гладким и бесконфликтным. Постулируя додоговорное происхождение солидарности, основанной на деятельности и автономии индивидов (а также, отметим, на предполагаемом доверии между ними), Дюркгейм не придал должного значения тому факту, что репрезентация и символизация этого доверия в неформальных контекстах социальной жизни (например, в такой частной сфере, как дружба) суть функции иного прядка, чем выполняемая им же функция регулирования потока ресурсов об-
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
щества. Первое имеет дело с его чистым или «первородным» воплощением, а второе — с его институализированной формой, формой механизма регулирования. Когда выше, говоря о доверии, мы утверждали, что в некоторых контекстах оно воплощается in minora*, сказанное относилось не к пониманию его роли как безусловного принципа генерализованного обмена, а к осознанию, пусть неясному, его изначального значения в признании деятельности другого. Поэтому в большинстве констекстов нам необходимо лишь мимоходом отметить его присутствие; в большинстве же случаев достаточно бывает и духовной близости во втором смысле.
Таким образом, в результате того, что Дюркгейм не смог вычленить в понятии доверия двух различных смыслов, он не отличал безусловностей общества (то есть присущих ему додоговорных убеждений) от духовной близости как механизма, обеспечивающего общность этих убеждений; иными словами, он смешивал доверие как духовная близость (как механизм) и доверие как основу современных форм солидарности. Однако, то, какое значение приписывал он становлению посреднических групп, обеспечивающих духовная близость, необходимое для утверждения современных форм солидарности, являлось свидетельством смутного осознания им этого различия. Напомним: участие в таких группах считалось способом определенного преодоления процесса социальной дифференциации, а это само по себе создавало все большие трудности для точного определения содержания тех составляющих основу солидарности сильных оценок, которые разделяются всеми индивидуальными акторами. Таким образом, предполагалось, что в качестве механизма обеспечения социальной солидарности такое участие будет ограничивать ту самую дифференциацию (а, следовательно, и свободу других), которую порождают современные формы разделения труда (и ролевой дифференциации). Однако, как мы уже отмечали при предыдущем упоминании о Дюркгейме, свобода другого и связанный с этой свободой риск являются фундаментальными аспектами современных социальных отношений, значение которых не может преуменьшить участие в посреднических ассоциациях. Признание существования этой свободы и порождаемого ею риска не является частью нашей повседневной жизни, нашей уверенности в ролевых ожиданиях и структурирующих их принципах генерализованного обмена — оно коренится исключительно в тех интеракциях, что определяются «первородным» присутствием этого признания (по большей части оно обнаруживается в неформальной сфере дружбы и частных отношений). Таким образом, причиной того, что в непрозрачной воле другого Дюркгейма не сумел распознать доверие как фундаментальный аспект современной солидарности, явилась его неспособность отличить принципы генерализованного обмена от изначальной формы такового, между тем, как только в внутри изначальной формы и может возникать доверие.
 Минимально (лат.). — Прим. перев.
Минимально (лат.). — Прим. перев.
'■'Hq4U'>1\ Я»'
Доверие...
Проявления этого «первородного» доверия и доверия как принципа генерализованного обмена не только несводимы друг к другу, но само их сосуществование характеризуется напряженностью. Напряженность имеет место между любым репрезентативным идеальным представлением о свойственных сообществу моральных связях и институциализированной формой такого представления. Аналогичное напряжение существует, например, между идеей общества, отраженной в Нагорной проповеди, и институциональными воплощениями средневековой католической церкви или между заложенным в брахманизме идеалом самоотречения и повседневной организацией разделения труда в системе каст, между идеалом родственных отношений и их конкретной ролью в организации экономических отношений. Как было замечено выше, именно это напряжение приводит к периодически возникающим ритуально институциализированным моментам единения (в форме паломничеств, совместных причащений, обрядов перехода и т.д.), служащим подтверждением тех конститутивных элементов сообщества, которые в силу собственной природы постоянно ослабляются тем самым разделением труда, которое (снова подчеркнем) на этих же принципах и основано.61
Потребность в подтверждении этих фундаментальных моментов солидарности, потребность в том, чтобы придать зримость безусловному проливает свет еще на один аспект его существования — на то, что в нашей повседневной жизни мы не можем постоянно ощущать его присутствие. Сами по себе системы обмена и взаимности, в функционировании которых мы каждодневно участвуем, не включают в себя непосредственного осознания лежащих в их основе принципов. И хотя все социальные системы институциализирова-ли определенные сферы деятельности в качестве моментов непосредственной связи с безусловными принципами солидарности (это могут быть и исследованные Виктором Тернером ритуальные действа, и просто определенные социальные роли, роль самоотрекающегося в индуизме, святого человека в исламе, роль шамана и т.д.), при всем том они не могут обходиться только прямыми связями с названными безусловностями. Подобные попытки проваливаются из-за собственной антиномичности — в истории можно найти массу примеров этому (в качестве иллюстрации из современной жизни можно привести движение хиппи). Борьба Св. Августина с донатистами может быть также рассмотрена как борьба вокруг повседневного воплощения безусловностей и того, какое следует отводить им место — непосредственного присутствия в определении ролей, как настаивал священник (выражавший позицию донатистов) или же они должны выступать как опосредованные институциональной структурой церкви (позиция Августина). Августин продемонстрировал ясное понимание невозможности установления долговечного социального порядка (в данном случае речь идет о католической церкви) на основе какого-либо постоянного, непосредственного определения социальных ролей — определения, конституируемого соответствующими этим ролям бе-


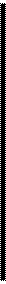 110 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
110 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
зусловностями. Правоту Августина подтвердило последующее появление христианства и порожденных им ересей. Наиболее успешная из ересей, протестантская реформация, столкнулась с тем же кризисом институциализации, так как следствием успеха реформации явилась трансформация ее изначальных представлений о сообществе и его конститутивных связях.62
Таким образом, вместе с Августином нам следует утверждать, что хотя характер наличной безусловности определяет присущие данному обществу виды солидарности и принципы разделения труда, сама эта безусловность не может заменить собой разделение труда. Как кратко выразился об этом Маркс, «средние века жили не одной только верой». Он хотел сказать этим, что средневековье жило не самой безусловностью, а ее институциализированными воплощениями в системе ролей и принципов генерализованного обмена: ин-ституциализацией, результатом которой явились именно те системные правила, что могут служить источником уверенности (и ощутимо присутствующего в жизни общества социального капитала); а при обнаружении того, что можно назвать системными ограничениями (выше, говоря о наших повседневных взаимодействиях, мы называли это существованием доверия in minord), возникает необходимость возврата к первородной форме безусловности. Подобно тому, как средневековье не жило одной лишь верой, современность не живет только доверием. Тот факт, что доверие существует ныне в качестве безусловного принципа генерализованного обмена, не означает его постоянного присутствия в качестве реалии нашей повседневной жизни. Ведь если принять во внимание напряжение, неотъемлемо присущее отношениям между доверием и его же институциализованными формами (как то разделение труда, являющееся фундаментом жизни общества), то подобное постоянное присутствие оказывается просто невозможным.
Все это подводит нас к первому противоречию нашего нынешнего положения: именно успех современности как цивилизации, успешность современной институализации привела, в силу вышеописанных причин, к возрастанию общественной потребности в доверии (как форме обращения к безусловному) — и это происходит в ситуации, когда условий для реализации данной потребности (потребности в духовной близости во втором смысле) становит-' ся все меньше (то есть при дифференциации ролей возникает все больше «за^ зоров» между ролевыми системами и одновременно уменьшаются возможности насаждения основанных на духовной общности сильных оценок, а эти сильные оценки и есть коллективное сознание, основанное на понятии индивида и неразрывно связанном с ним понятии доверия). Существует и второе противоречие — или, возможно, это только несоответствие (хотя оно представляется нам неразрешимым) — между символизацией безусловного в его; «первородной» форме и его ролью в организации разделения труда или, говоря словами С. Н. Айзенштадта, между теми «интеракциями, которые символизируют и легитимируют процесс [функционирования] безусловностей и
лщрящ BM'isv
,ы.Ш'№ Доверие..;\
установления условий доверия и додоговорных элементов социальной жизни».63 Рискну предположить, что именно это противоречие составляет существо нынешнего спора между коммунитаристами и либералами относительно того, в чем состоит общее благо; так что, возможно, предлагаемая здесь новая постановка данной проблемы позволит нам отыскать пути ее разрешения.
Ведь тема соотношения частного и публичного, занимающая столь важное место в современных дебатах по проблемам политической философии, если подойти к ней с позиций социологии, есть не что иное, как тема символизации «первородного» содержания современных безусловностей (опирающихся на такие понятия, как «доверие» и «индивид») как чего-то отличного от институализованных форм этих безусловностей. Символизация современного содержания понятия солидарности лучше всего представлена в частной сфере интимных и дружеских отношений — сфере неформальных взаимодействий, рассматриваемых обычно в качестве частной сферы. Именно здесь, а не на рынке, не в местах всеобщего скопления, не на бирже (для таких мест вполне достаточно системной уверенности) мы интуитивно стремимся обрести тепло и комфорт безусловной солидарности, доверия как общности сильных оценок. Согласно Сейле Бенхабиб, именно в частном пространстве ожидаем мы от индивидов желания и способности соответствовать высочайшим этическим критериям своей культуры (то есть ее безусловностей); именно здесь, вместе с другими — совершенно конкретными другими, соединенными с нами общими историческими и идейными узами, а также узами любви и дружбы — обычно и ищем мы солидарности, основанной на репрезентативной идее доверия, постулируемой нами в качестве сердцевины собственной культуры.64 Здесь находится источник современного парадокса: в репрезенго безусловности культурной жизни в качестве чего-то отделенного от сферы их организационных последствий и противостоящего этой сфере в виде принципа генерализованного обмена — в противостоянии частной и публичной сфер. Таким образом, «сильные связи» доверия в частной сфере составляют контраст со «слабыми связями» функционирования доверия в качестве принципа организации разделения труда.65
Данная оппозиция является побочным продуктом развития феномена доверия, и, подобно первой оппозиции, касающейся современного понятия безусловности (доверия), появление ее есть лишь один из аспектов — непредвиденное следствие — успешной институциализации этого понятия. Ибо если говорить о моменте зарождения этого понятия, то в ту пору противоречие частного и публичного не ощущалось — напротив, именно данные новые составляющие содержания безусловности (основанной на доверии) создавали возможность становления коммерческого общества благодаря тому, что предполагали одинаковые типы взаимодействия как во «внешних», так и во «внутренних» группах. Подобное превращение имело место как в экономике, так и в политике. Его политический аспект лучше всего отражен в знаменитом вые-
 112 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
112 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
казывании Бёрка о «маленьком отряде» — он говорит: «Быть привязанным к собственному подразделению, любить тот маленький отряд, частью которого мы являемся в обществе — вот первый принцип, вот суть публичных добродетелей. Это самое первое звено в той цепи любви, которая связывает нас со своей страной и со всем человечеством».66 Значение этого первого звена для определения способов экономической деятельности основательно исследовалось Максом Вебером, подчеркивавшим влияние на него со стороны религиозных принципов протестантизма эпохи Реформации, приведших к «исчезновению дуалистической этики, исчезновению различия между общеобязательной моралью и особыми, передовыми принципами для посвященных».67 Отсюда его знаменитое высказывание:
< «всеобщий разгул совершенной неразборчивости в средствах в ходе корыстолюбивой погони за деньгами явился характерной чертой именно
т тех стран, буржуазно-капиталистическое развитие которых оставалось, по западным меркам, замедленным. Как известно каждому нанимателю, недостаточная coscienziosita* у рабочих таких стран — например, в Италии по сравнению с Германией — была и в определенной мере
:,. остается одним из главных препятствий для капиталистического развития этих стран. Капитализм не в состоянии воспользоваться трудом
, тех, кто практикует недисциплинированный liberum arbitrium", так же,
с как не в состоянии он иметь дело с бизнесменом, который совершенно не считающемся с окружающими».68
Таким образом, суть успеха предпринимательства составляет не само по себе образование добровольных ассоциаций (как думает Фукуяма и другие), а качество этих ассоциаций, их моральные принципы или их безусловности. Когда эти связи были основаны на доверии (а не на уверенности, как, например, в Японии), развитие этих принципов совпадало с динамикой упомянутого выше соотношения между сильными и слабыми связями (а значит, как мы покажем далее, с развитием противоречий между частной и публичной сферами). Как подчеркнул Бенджамин Нельсон, «То, что разрастание сферы морального сообщества обычно осуществлялось путем принесения в жертву действенности моральных связей, или то,... что все люди становились братьями в той степени, в какой становились чужими друг другу, является трагедией современной истории».69
Однако, необходимость в подобных определениях морального сообщества (а значит и в безусловностях обмена) на Западе диктовалась двумя фун-
 * Сознательность (итал.). — Прим. перев. ** Произвола (лат.). — Прим. перев.
* Сознательность (итал.). — Прим. перев. ** Произвола (лат.). — Прим. перев.
Доверие..,
даментальными принципами современного капитализма: отделением бизнеса от ведения домашнего хозяйства и рациональной организацией труда. Представление о добродетельном моральном сообществе как сообществе доверия оставалось проблематичным и, возможно, нежизнеспособным. Ибо то самое представление о доверии, которое играет столь важную роль в классической республиканской традиции, что, говоря словами Энтони Пагдена, «делает его таким чрезвычайно подходящим для капитализма или, говоря современным языком, для коммерческого общества», распадается, надламываясь по той самой линии сбоя — линии репрезентации «первородного» доверия — которая, по всеобщему мнению, пролегает в частной сфере.70 Возможно, Америка XVIII века может служить образцовым примером развития обеих тем: темы соотношения между классическим республиканством и становлением коммерческого общества и темы репрезентации тех добродетелей, на которых зиждется общество, понимаемое как объединение частных, а не публичных лиц.71
Итак, если изначально считалось, что публичное доверие основывается на частном (точно так же, как «свобода договора» и гарантия «личной автономии договаривающихся сторон» была запечатлена в договорном праве XIX века), то ныне отношения между этими двумя формами доверия носят более конфликтный характер: «свобода договора» была ограничена множеством оговорок, а предоставление особой автономии партиям все более подчинялось принципам i [убличного порядка. Необходимо подчеркнуть, что ограничение свободы дого-иора само по себе явилось следствием противоречия между условиями изначального доверия как «личной автономии» и их институциализированной формой — противоречия, обнаруживающегося в тех правах индивидов и групп, которые затрагивают «свободу» заключения договора. Отметим кажущееся наличие здесь противоречия — это подводит нас к сути вопроса. В XIX веке принципы генерализованного обмена гарантировали свободу договора, а в XX веке те же самые принципы ограничивали эту свободу заботой о правах рабочих и распространением социального смысла гражданства с высших на низшие классы общества; а законы, подтверждающие права на ту или иную деятельность, во-чымели аналогичный эффект на прочие социальные группы. Так, дальнейшая ннституциализация идеи индивида как источника морального порядка в сфере функционирования общества и экономики привела к ограничению той самой личной автономии индивида (здесь: договаривающихся сторон), которая в середине XIX века являлась главным воплощением представлений о присущих обществу безусловностях.
Эти темы вновь и вновь возникают в известном исследовании Атайи, по-сиященном договорному праву, «Возникновение и уничтожение свободы договора». Он показывает, что в либеральной теории XIX века публичное доверие «исполнению» обещаний и «верности» им действительно базировалась на частном доверии:
 114 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
114 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
В!
«То был важный принцип социального сосуществования «джентльменов»; то был важный коммерческий принцип, ибо бизнесменам приходилось полагаться на обещания других; то был важный принцип социального поведения и дисциплины для общественности, которая должна была усвоить: договорившись о чем-либо, следует договоренность соблюдать; то был важный принцип обеспечения справедливости, ибо справедливость требует, чтобы каждому человеку была дано то, что ему причитается, а что причитается человеку, как не то, что ему было обещано?»72
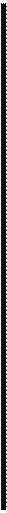
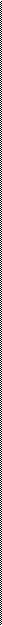 Атайя показывает к тому же, что к концу века эти принципы изменились, а свобода договора и автономия договаривающихся сторон все в большей степени становилась объектом публичных ограничений. Эти ограничения исходили из новых принципов распределительной справедливости, налагавшей на договоры все больше ограничений. Интересно, что легитимацией этих новых аргументов явились принципы предельной полезности (для миллионера сто фунтов значат меньше, чем десять фунтов для рабочего человека), а это, думаю, показывает, что и новые аргументы также опирались на прежние безусловности (моральные представления о ценности индивида) или принципы генерализованного обмена — правда, теперь они формулировались во более общих социальных и социетальных терминах и, что самое важное, были институциализированы преимущественно в сфере экономической жизни.73 Именно эта институциализация противопоставляла публичному, социальному и инструментальному аспектам того, что в условиях современного Запада стало принципами генерализованного обмена, более примордиальные, чистые и приватные аспекты.
Атайя показывает к тому же, что к концу века эти принципы изменились, а свобода договора и автономия договаривающихся сторон все в большей степени становилась объектом публичных ограничений. Эти ограничения исходили из новых принципов распределительной справедливости, налагавшей на договоры все больше ограничений. Интересно, что легитимацией этих новых аргументов явились принципы предельной полезности (для миллионера сто фунтов значат меньше, чем десять фунтов для рабочего человека), а это, думаю, показывает, что и новые аргументы также опирались на прежние безусловности (моральные представления о ценности индивида) или принципы генерализованного обмена — правда, теперь они формулировались во более общих социальных и социетальных терминах и, что самое важное, были институциализированы преимущественно в сфере экономической жизни.73 Именно эта институциализация противопоставляла публичному, социальному и инструментальному аспектам того, что в условиях современного Запада стало принципами генерализованного обмена, более примордиальные, чистые и приватные аспекты.
Думаю, именно с помощью указанного процесса институциализации безусловностей или принципов генерализованного обмена легче всего вникнуть в некоторые насущные проблемы современной политической теории и постичь их связь с проблемой доверия в современном мире. Ибо, как мы попытались показать выше, именно напряжение или противоречие между совершенно различными областями, в которых существуют, с одной стороны, «первородное» доверие, а с другой, доверие как принцип генерализованного обмена, и является фактически действующим принципом нынешнего часто комментируемого конфликта между частной и публичной сферами — особенно в том виде, в каком этот конфликт отображен в современной политической теории и в противоборствующих представлениях о нем либералов и коммунитаристов. К данным аспектам рассматриваемого конфликта — аспектам преимущественно символическим и идеологическим — нам и предстоит сейчас обратиться.
и;*
ЧАСТЬ II
 2015-05-15
2015-05-15 343
343








