ли t ■V
J _
(М
Глава 4
 ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
РУССО, СМИТ И НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННИКИ
Понятия публичного и частного, а также идея гражданского общества, жизни ассоциаций или публичной сферы переживают в наше время своего рода малый ренессанс, им посвящаются бесчисленные книги, статьи, конференции и симпозиумы. Между тем, эти понятия и эти идеи не новы — на протяжении вот уже немалого времени ими оперируют антропологи, политологи и социологи. Роль и значение понятий публичного и частного постоянно возрастали, начиная с исследования «Человеческое состояние» (1958) Ханны Аренд, продолженного нашумевшей книгой Чарльза Майера «Изменение границ публичного и частного» (1987), последним же из главных событий в этой области, заставившим научную общественность изменить подход к названной теме, стало появление английского перевода работы Юргена Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы» (1989). Недавно увидевшая свет книга Джеффа Вейнтрауба и Кришана Кумара «Публичное и частное в теории и практике: перспективы великой дихотомии» (1997) является ярким свидетельством того, что представители различных научных дисциплин активно привносят в данную тематику новое понимание.
|
|
|
При всей интенсивности интереса к данным темам, при всей частоте упоминания о них не только в ученых книгах и статьях, но и в популярных дискуссиях, привлекает внимание тот факт, что в области социологии идеи публичного и частного остаются поразительно неконцептуализированными. Подобное положение контрастирует с тем явным интересом, который проявляет к теме публичного и частного политология или антропология, в которых данные понятия были подвергнуты пристальному анализу и обсуждению. И в обоих случаях интерес к названной тематике не явился чем-то удивительным. Ведь если говорить о либеральной политической теории, то она базируется как раз на разграничении публичной и частной сфер — и конечно, публичной и частной жизни. Начиная с мыслителей XIX века — Карла Маркса и Беньямина Констана — и вплоть до новейших дискуссий, ведущихся коммунитаристами и либералами вокруг определения общественного блага (public good), тема публичного и частного — их границ, содержания, интерпретации и т.д. — привлекала к себе сильный интерес и вызывала споры. В последние годы в эти споры
. Ш'5 Публичное и частное... 117
включились ученые-феминисты, выступающие, подобно многим теоретикам республиканской демократии (таким как Квентин Скиннер) с критикой либерального различия между домом и рынком (частной и публичной сферами), и подвергающие сомнению классическое либеральное разграничение публичной и частной сфер.'
|
|
|
Кроме того, нынешний интерес к гражданскому обществу и к идее публичной сферы — усиленный событиями в Восточной Европе 1989 года, атак-же, в определенной степени, и появлением работы Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы» — привел к возрождению интереса также и к самим представлениям о публичном и частном, к их историческому, компаративному и аналитическому аспектам. Все эти факторы — вкупе с идущими сейчас дебатами о приватизации и роли общественного сектора в организации государственного устройства и коллективной жизни, феминистской критикой «патриархальных» проектов, составляющих скрытую сущность современного либерального мировоззрения, сражениями на поле мультикультуризма и «политкорректности» —- обусловили появление в области политической науки, политической философии и публичной политики весьма утонченных и прекрасно сформулированных попыток теоретического рассмотрения темы публичного и частного.
Аналогичным образом, тема публичного и частного продолжает в течение некоторого времени играть важную роль в антропологии — в рамках данной научной дисциплины встреча с другими культурами побудила этнографов исследовать сходства и различия категорий публичного и частного в различных культурных контекстах. В этом отношении работы Джейн Шнейдер о структурировании тендерных отношений в сообществах Северной Африки и Ближнего Востока или исследование Лесли и Джоном Хевиландами частной жизни мексиканской деревни представляют собой лишь некоторые примеры того неугасающего интереса, который питает антропология к вопросам динамики публичного и частного в различных обществах.2
В данной ситуации вызывает удивление тот факт, что до сих пор не было предпринято ни одной попытки создания единой синтетической теории публичного и частного, то есть не было попыток соединить в рамках связной системы представлений различные взгляды и определения, развиваемые по данной теме в политической философии, антропологии или феминистской теории. Такая система могла бы послужить основой классификации, позволяющей осуществлять дальнейшее изучение специфики и своеобразия различных форм (и идеологий) публичного и частного в самых разных культурно-исторических контекстах. В определенном смысле, создание такого проекта должен быть делом социологов, которые, однако, до сих пор сторонились подобных начинаний. Эта сдержанность тем более удивительна, что дискурс вокруг данной тематики становится все заметней как в среде общественности, так и в академических кругах; и, что самое главное, сдержанность прояв-
118 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ляется социологией в ситуации, когда различные теоретики приписывают этим понятиям весьма несхожие и порой даже противоположные значения.: Один из ярких примеров подобного рода расхождений в существующих на данный счет воззрениях можно обнаружить в концепции публичного и частного, принадлежащей самой Ханне Аренд; согласно ее трактовке, в наше время публичное и частное начинают исчезать по мере «становления социального», так как последнее понятие устраняет, в ее понимании, ранее (например, в античный период) существовавшее различие между публичным и частным. Это в высшей степени обязывающее определение резко противоречит пониманию большинства других теоретиков — от Маркса и Констана до Хабермаса— полагающих, что XVIII век и становление современной капиталистической культуры есть не что иное как начальный момент возникновения различия между публичным и частным, Аренд же считает, что как раз в этот период данное различие стало исчезать.
|
|
|
; Приведем еще один пример — ставшую уже классикой работу Норберто Боббио «Публичное и частное\ Великая дихотомия», где данные понятия описаны в парных категориях «равенство — неравенство» и «отношения между частями и целым — отношения между частями».3 Схематически его концепцию можно изобразить следующим образом:
ПУБЛИЧНОЕ
ЧАСТНОЕ
неравенство
равенство
отношения между частями и целым
Бог
отношения между: частями
братья
государство
Семья
родня
друзья
граждане
враги
Здесь мы имеем первые шаги многообещающей попытки создания системы перекрестных категорий; правда, как только мы покидаем область политической философии и обращаемся к повседневной жизни данная категоризация обнаруживает всю свою проблематичность. Так, отношения между человеком и Богом, определенно являясь отношениями неравенства, более всего напоминающими отношения части к целому, часто определяются автором также и с точки зрения приватности сознания, а во многих отношениях
Публичное и частное...
— с точки Зрения приватности дома или другого замкнутого пространства (но крайней мере, для того временного отрезка, начало которому было положено протестантской реформацией — к этому обстоятельству в последующем нам предстоит часто обращаться). Аналогичным образом, в современности, по мере проникновения государства в область регулирования частных жизней и повседневных дел, к частной сфере примкнула и семья. С другой стороны, отнюдь не во всех культурах братские отношения являются отношениями равных (примером тому действующее в некоторых обществах право первородства). В родоплеменных обществах родовые системы могут строиться и на принципах равенства, и иерархически, так что невозможно пналитическим путем прийти к выводу о преобладании какого-то одного из)тих двух типов систем. Дружба как неформальные отношения между равными также есть феномен новейшего времени, демонстрирующий значительные отличия в разных культурах и в разные исторические периоды. Несомненным и определениях Боббио остается лишь самое важное (несколько гегельянское), наводящее на размышления отождествление публичного с отношениями между частями и целым, а частного — с отношениями между частями.
|
|
|
Подобное определение чревато мучительными проблемами —в том числе, и для сферы доверия, особенно в части ее соотношения с проблематикой социальной солидарности. Например, мы уже подчеркивали необходимость различения между доверием в его «первородной» форме и доверием как ин-ституционализованной моделью генерализованного обмена. К тому же мы нидели, каким образом это различение влияет на отношения между публичной и частной сферами: в современных обществах любой социум, способный реализовывать доверие в его «первородной» форме, рассматривается как своего рода «заповедник» частной сферы (которую Боббио отрицает как образчик отношений между частями) — в отличие от институциализированного выражения доверия в частной сфере (как примера отношения частей к целому). Дополнив свое собственное понимание тем, которое привносит Боббио, мы получаем возможность оценить всю актуальность проблемы поддержания социальной солидарности (или жизни ассоциаций) в тех обществах, которые дают принципиальное выражение своим безусловностям исключительно и частной, а не в публичной сфере. Эта проблема проявляется (или, скорее, потенциально присутствует) в отношениях между частями, а не в отношениях между частями и целым. Связанный с этим момент напряженности в различных его ипостасях будет изучаться в рамках данного раздела.
Начнем с краткого исследования двух традиций политической мысли, моральные императивы которых имеют непосредственное отношение к этим весьма различным сферам — публичной и частной — благодаря чему на протяжении последних двух столетий эти традиции успели постулировать тот или иной набор отношений в качестве основы общественного блага. Поэтому прежде чем начать более подробно анализировать различные аспекты проблемы
120 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
соотношения публичного и частного с точки зрения их влияния на вопросы доверия и уверенности, думаю, есть смысл сначала исследовать определенные аспекты той роли, которую играют они в политической или моральной философии. Ведь мысль, которую я собираюсь развить здесь, состоит в том, что если мы обратимся к двум политическим традициям того, что я назову для краткости «гражданской добродетелью» и «гражданским обществом», то обнаружим два совершенно различных представления о публичном и частном как источниках добродетели и морали. Можно сказать, что, в конечном счете, различие этих двух представлений состоит в том, какой из типов отношений — отношения между частями и целым или отношения между частями целого — считается конститутивным для рассматриваемой общности и ее моральных устоев, которые, как я намерен доказывать ниже, суть то же самое, что доверие.
Эти две традиции представляют две принципиально противоположные модели гражданства, а, следовательно, и два несовместимых видения общественного блага (social good). Ведь в основе многих из нынешних дискуссий на тему гражданства, ведущихся как на Западе, так и на Востоке, — будь то в высшей степени принципиальные (как, например, дискуссия между либералами и коммунитаристами) или, в сущности, практические споры (посвященные мультикультуризму, преподаванию языка в некоторых североатлантических сообществах, статусу русскоязычных меньшинств в государствах Балтии или статусу этнических меньшинств в различных частях Восточной и Восточно-Центральной Европы) — лежат принципы, позаимствованные у данных двух политических традиций, которые, как я покажу, отдают предпочтения разным концепциям доверия, относя его либо к публичной, либо к частной сфере.
В определенном смысле, данная мысль не так уж и нова. Речь, с которой в 1819 году выступил в «Athenee Royal» *. Беньямин Констан — «De la liberte des anciens comparee a celle des modernes»" — есть не что иное, как экспликация некоторых бросающихся в глаза различий между традициями гражданских добродетелей и гражданского общества — правда, самих этих терминов в данной речи не содержится.4 Принимая во внимание непрекращающиеся дискуссии по вопросам политической теории (и тот полемический характер, который они часто приобретают), а также вопросы более практического свойства, встающие в конце XX века перед обществами как Восточной, так и Западной Европы, будет нелишним совершить еще один обзор этого круга проблем, дабы выяснить, что объединяет и, особенно, что разъединяет две эти традиции, противоположные по своей направленности и, вместе с тем, в равной мере составляющие понятийный фундамент наших сегодняшних представлений об общественном благе.
 * Литературно-научном королевском обществе (фр.). — Прим. перев ** О свободе в прошлом в сравнении со свободой в настоящем (фр.). ■
* Литературно-научном королевском обществе (фр.). — Прим. перев ** О свободе в прошлом в сравнении со свободой в настоящем (фр.). ■
- Прим. перев.
Публичное и частное...
Как и вся политическая теория, концепция гражданского общества и гражданских добродетелей предполагает формирование определенных представлений о соотношении индивидуального и социального и постулирует это соотношение как в нормативном, так и в дескриптивном аспекте. Обе эти концепции уходят своими корнями в интеллектуальные традиции Западной Европы, в учение о естественном праве, в систему политической философии Древней Греции и республиканского Рима и сопутствующий ей комплекс представлений. Обе концепции сыграли немаловажную роль в начале современной эпохи, когда после распада феодализма и вселенской католической церкви начались поиски новых общественных устоев.5 В XVIII и до некоторой степени в XIX веке ряд мыслителей придал им обеим разнообразные (и порой взаимоналагающиеся формы), из-за чего написание полной истории этих концепций является ныне делом трудным (а в пределах данной главы попросту невозможным). Здесь мы можем предложить лишь некую абстракцию основных аналитических идей, в той или иной степени определяющую соответствующие традиции с точки зрения их отношения к понятию общественного блага. Оба указанных понятия имеют отношение к понятию «морального сообщества» как к основе социальной жизни. И наконец, в обоих концепциях идея «добродетели» рассматривается с точки зрения ее решающего значения для существования морального сообщества.
Аналогичным образом, оба понятия связаны с представлениями о силах, грозящих «разложить изнутри» моральное сообщество; данные силы описываются в поразительно близких по смыслу понятиях: роскошь, зависть, алчность, а также то, что мы назвали бы ныне усиливающейся дифференциацией общества (в конце XVIII века этот процесс соответствовал процессу расширения рынка и развитию связей чистого, инструментального обмена между социальными акторами). При всех этих сходствах, между этими понятиями имеются и важные различия как исторического, так и аналитического свойства, причем, одно до некоторой степени связано с другим.
Гражданское общество более всего отражает англо-американскую традицию, наиболее заметными представителями которой являются такие мыслители, как Френсис Хатчесон, Джон Миллар, Хью Блэр, Адам Фергюсон и Адам Смит, которых мы отождествляем с Шотландским просвещением. Традиция же гражданских добродетелей представляется более континентальной по своей природе, ассоциируясь с рядом имен — первым в этом ряду будет Макиавелли, а последним Жан-Жак Руссо (хотя и в Англии гражданские добродетели имели большое значение в среде «неохаррингтонианцев», а также вследствие оказанного за десятилетия независимости влияния на колониальную культуру).6 Традиция гражданских добродетелей обладала более непосредственной связью с политической философией Древней Греции и Рима и в этом смысле она в была большей степени «обращена вспять». Беря античный город-государство за образец гражданской добродетельности, она искала (и в некото-
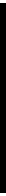 122 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
122 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ром смысле, ищет и по сей день) возврата к тому определению гражданства,
олицетворением которого служил афинский полис или римская республика.
Таким образом, эта традиция стремится возвратиться к определению чело
века как гражданина, согласно которому, по Аристотелю, телос* мужчины
(а теперь, очевидно, и женщины) следует искать в сфере политической дея
тельности. ;
Представление о человеке как «полном гражданине» или, говоря иначе, «тотализация» человека как гражданина имело мало общего с той традицией социальной философии, которую мы связываем с идеей гражданского общества — по крайней мере, в том ее виде, в каком она существовали в XVIII веке у шотландских моралистов.7 Признавая заслуги античного республиканского способа правления, эти мыслители все же проявляли наибольшую восприимчивость к факту необратимости исторических перемен, благодаря чему их философия была приспособлена скорее к созданию новых основ для взаимности, коллективизма и сотрудничества (то есть, в конечном счете, для добродетели) нежели к возврату к той форме социальной организации, эффективность которой в плане утверждения ценностей коммерческого общества XVIII века вызывала все большие сомнения.
; Нам представляется, что в определенном смысле данная позиция шотландских моралистов со временем оправдала себя, так как в последнюю треть XVIII и, особенно, в начале XIX века традиция гражданского общества начинает вытеснять традицию гражданских добродетелей (настолько, насколько вообще можно вести речь об их раздельном существовании). Это становится еще более очевидно в последующие периоды, когда идеи гражданского общества в процессе борьбы, разгорающейся вокруг понятия гражданства, обретают в некотором смысле институциализацию.
Однако, данные исторические различия способны служить не более чем введением в разговор об имеющихся между этими традициями существенных различиях. Поскольку же наш интерес определяется, главным образом, сиюминутным и в во вторую очередь чисто историческим интересом к истории идей, нам следует обратить главное внимание на принципиальные аналитические различия между представлениями каждой из этих традиций относительно влияния человеческой деятельности на общество.
Данные различия фактически обусловлены тем, что здесь мы имеем дело с двумя отличающимися друг от друга определениями добродетели или, говоря шире, с различными концепциями морального общественного устройства. С точки зрения социологии, эти концепции можно представить как два разных понятия солидарности, согласно которым моральное чувство является функцией либо публичной (в традиции гражданских добродетелей), либо частной (в традиции гражданского общества) морали. Для того, чтобы уловить здесь не-
 (др.-гр.). — Предназначение. — Прим. перев.
(др.-гр.). — Предназначение. — Прим. перев.
Публичное и частное... 123
посредственную связь с воплощенными двумя этими политическими традициями совершенно различными моральными представлениями, достаточно лишь вспомнить анализ Дюркгейма и сравнение репрессивного и реститутивного права как характеристик механической и органической солидарности.8
В рамках традиции гражданских добродетелей — олицетворяемой Аристотелем (предназначение человека — полис), Макиавелли, неохаррингтони-анцами (боязнь внутреннего разложения в XVIII столетии), Руссо (отказ ото всех естественных свобод во имя общества) и даже Ханной Аренд с ее философским мировоззрением (согласно которому человек способен самореализоваться только будучи членом публичной сферы) — моральная идея является идеей публичной.9 Она определяется коллективным сознанием (conscience collective) или, используя знаменитое выражение Руссо, volonte generale.10 Мораль или содержание добродетели есть не столько атрибут частной жизни, сколько общественное или общинное дело. Она реализуется в ходе активного и продолжительного участия членов коллектива в общих делах, и, согласно Макиавелли, ее можно абстрагировать и удалить из всех элементов частной морали." У Руссо «добродетель» кратко определяется как «соответствие частных воль общей воле».12 Это согласуется с его общими представлениями о морали, согласно которым подчинению и регулированию со стороны власти подлежат не только «действия» человека, но и его «воля».13 В данном случае имеет в виду не суверенная власть деспота, а суверенная власть сообщества, образованного, как поясняет Руссо в «Общественном договоре», путем «полного отчуждения в пользу общества каждого участника со всеми его правами».14 Общество, в котором «все и каждый отдает себя лично и всю свою власть под прямое управление общей воли, и сообща каждый из членов общества становится неотъемлемой частью целого» (курсив мой. — А. С), — такое общество является не только моделью того типа солидарности, которое Дюркгейм называл механической, но и, в сущности, моделью гражданства, наиболее всего соответствующей идеальному обществу, построенному в истинных традициях гражданства.15
Итак, Руссо создает образ сообщества, характеризующегося совершенно неопосредованными связями между частями и целым, сообщества, в котором порицаются «частные интересы» и «частные ассоциации», а «связь одних членов с другими» является «совершенной неважной», в то время как отношение членов к целому» является «в высшей степени важным»:|6 таково моральное сообщество — моралью в таком сообществе обладает только оно само. Если мы отказались от трансцендентной морали (а утилитаризм нас не прельщает), нам ничего не остается, кроме как взять на вооружение выкладки Дюркгейма относительно социальной природы любой морали. Я говорю об этом только для того, чтобы не упустить из виду принципиального различия между сообществом как источником морали (этакий социологический трюизм) и понятием общности как моральности (более сильное утверждение). После-
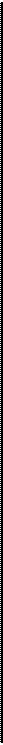 124 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
124 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
дний вариант составляет суть традиции гражданских добродетелей, в которой добродетельное сообщество (выражаясь более сентиментальным языком) — это такое сообщество, где общественное благо определяется исключительно через подчинение частного публичному.
Здесь мы вступаем на скользкую почву, ибо не только границы публичного и частного, как и определение, постоянно изменяются, но и само различение публичного и частного как таковое появляется в качестве предмета теоретического рассмотрения только в XVIII веке.17 Поэтому, прежде чем перейти к другим характерным чертам традиции гражданских добродетелей (которые, как я намерен утверждать, следуют из данной определяющей черты), было бы разумным сопоставить его публичный характер с характером традиции гражданского общества в том виде, как ее трактуют шотландские моралисты. Ведь в традиции гражданского общества — особенно в том, что составляло ее отличие от традиции гражданских добродетелей (во второй половине XVIII столетия) — моральным фундаментом общества все в больше мере становится идеал частного. Идея (и идеал) приватности добродетели столь резко контрастирует с публичным характером добродетели в рамках первой традиции, что это делает ее, как мы ранее отмечали, принципиально иной моделью гражданства, равно как и общественного блага. Фактически, переход от добродетели как атрибута публичной сферы к добродетельности частной морали явился решающим шагом в становлении современного либерального индивидуализма с присущими ему моделями социального устройства. И как таковой он заслуживает нашего внимания. Кроме того, противопоставление этих двух традиций позволит нам лучше понять каждую из них в отдельности.
Как я уже говорил в другом месте, традиция гражданского общества — это, прежде всего, этическая конструкция.18 Начатая сочинением Энтони Шеф-стсбери «Характеры людей, нравов, мнений, времени т.д.» (1711) и продолженная произведениями Френсиса Хачесона «Трактат о происхождении красоты и добродетели» (1725), Адама Фергюсона «Опыт истории гражданского общества» (1767) и завершенная изданием 1790 года работы Адама Смита «Теория моральных чувств», эти теория занималась постулированием морального чувства или «универсальной склонности человечества к благожелательности» в качестве фундаментальной данности человеческой природы.19 Именно моральное чувство обеспечивало, по их мнению, взаимность, сострадание, эмпатию, а значит и основу взаимодействия людей, не обусловленного расчетом или чистым обменом. Говоря словами Адама Фергюсона:
«Если верно то, что люди объединяются инстинктивно и что движущими: пружинами их поведения являются добрые и дружественные чувства;
если верно, что еще до знакомства и установления определенных:. взаимоотношений люди, как таковые, являют друг для друга объекты
особого внимания и определенного уважения... то все эти много-
Публичное и частное... 125
з ■■'. образные проявления дружественного расположения способны, как нам
:j, кажется, служить достаточным основанием моральных понятий и наших
•*г представлений о праве, распространяемых посредством человеколюбия
• и доброжелательности на всех других людей. [Следовательно,
> а продолжает Фергюсон,] Человечество, говорят нам, находится во власти
' своекорыстных интересов; и это, несомненно, верно в отношении
к торговых наций; из чего однако не следует, что по своей природной ■.ж- предрасположенности они противостоят обществу и чувству взаимного * | расположения... счастье человека состоит не в удовлетворении и* животных аппетитов, а в осуществлении устремлений великодушного ;Щ<- сердца; не в обладании состоянием и не в своекорыстии, а в презрении <! ч ко всему этому, в порождаемых этим стремлением мужестве и свободе,
» которые, в свою очередь, подводят к решительному выбору образа:;•; t поведения, нацеленного на благо человечества, либо на благо того •№'■■ общества, к которому принадлежит данная партия».20
Определение морального чувства и концептуальное наполнение данного термина было различным у различных представителей Шотландского просвещения. «Естественные пристрастия» Шефтсбери, вводящего разграничение между «дружественным и восхищающим», суть не то же самое, что «моральное чувство» или «принцип человеколюбия» у Фергюсона.21 И ни тот, ни другой не предложил столь же философски разработанного принципа, как принцип «симпатии и одобрения» Адама Смита, являвшегося в концепции этого последнего движущей силой «всей суеты и всех сражений на свете... целью всей алчности и всех амбиций, целью погони за богатством».22 Вместе с тем, данные авторы поразительно походят друг на друга (частичное исключение составляет только Смит, о котором мы будем говорить подробней) — в том, что постулируют наличие врожденного морального чувства, существование которого не зависит от разума является функцией индивидуальной (моральной) психологии.23 «Совесть», к воцарению которой так стремились в XVIII веке Эдинбург и Глазго, относилась скорее к нравам отдельных индивидов, а не к публичным принципам. Местом ее «обитания» является личность, а не социальная единица. Если о Руссо можно сказать, что для него моральное чувство в форме volonte generate само собой зарождается в обществе, то для представителей традиции гражданского общества оно тоже зарождается само собой, будучи несводимо к каким бы то ни было интересам, умозаключениям и страстям. Но, постулируя самостоятельный статус моральных фактов, роль гаранта морального устройства названные авторы отдают не социальному, а индивидуальному.24
Идея гражданского общества поддерживала некоторые элементы традиции гражданских добродетелей, как, например, положение о «погруженности» индивида в общество (это особенно заметно на поздних стадиях развития
 126 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
126 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
либеральной теории и «методологического индивидуализма». Эту роль выполняют идеи «тщеславия» у Фергюсона и «одобрения» у Смита, служащие основанием для естественной симпатии и моральной привязанности, свойственных моральному сообществу.25 И те, и другие признавали существование так называемого «интерактивного» начала в индивиде: существование индивида является социальным по природе, а заключается эта социальность в том, что наши действия как бы «преломляются» в глазах окружающих. И те, и другие связывают индивидов с социальным целым, поскольку тем, что мы есть, мы становимся с помощью восприятия нас другими (в этом есть некое предвосхищение социального я Герберта Мида). Но важно то, что здесь общинный или социальный «другой» интернализуется в самом я, целостность которого при этом не нарушается, что, однако не порождает его отстраненности от общества. Между тем, все это весьма отличается от классической традиции — если не прямо противоречит ей — речь идет о традиции, рассматривавшей индивида как способного реализоваться в качестве человека лишь внутри полиса и лишь посредством деятельности в публичной сфере (в Древнем Риме даже интимную функцию продолжения рода считали исполнением гражданской обязанности), а также от руссоистского идеала, согласно которому гражданские добродетели и самореализация человека могут быть гарантированы только при условии замены отдельной личности «корпоративным и коллективным органом», обладающим собственной общинной идентичностью.26
Интересно, что обе модели призваны служить делу защиты моральных, общинных связей от разлагающих влияний, а также от того, что Руссо называл «обесцениванием добродетели», но если первая достигает этой цели путем внедрения общинных добродетелей в личность, вторая стремится достигнуть этой цели, делая индивидуальные добродетели недоступными для публичной сферы.27 Хорошей иллюстрацией этого различия, как и того факта, что главные представители данных традиций хорошо сознавали наличие указанных различий, может служить вопрос, поставленный перед Эдинбургским обществом изящной словесности в начале 60-х годов XVIII столетия: «Чей характер совершенней — характер Катона или характер Аттика?» — то есть персонажей, один из которых предпочитал публичную, а другой — частную жизнь. Ответ на этот вопрос призван был установить истинного носителя добродетели: для литераторов Эдинбургского общества таковым был Аттик — добродетельная личность, беспристрастный и сочувственный наблюдатель происходящего в публичной сфере.28
Отведение частной морали роли гаранта общественного благосостояния объединяло в XVIII веке всех теоретиков гражданского общества, особенно в Шотландии, где данную позицию разделяли такие мыслители, как Хью Блэр и «умеренные проповедники», запрещенные в таких изданиях, как «Edinburgh Magazine» или «Caledonian Mercury» и обсуждаемые в таких обществах, как клуб «Зеркало» или общество «Парфенон».29 Таким образом, именно в по-
.янс[ааой бм!1 Публичное и частное... 127
добного рода общественных организациях публичной сферы (которые ныне несколько ностальгически почитают за «колыбель» гражданского общества) данное суждение особенно энергично выдвигают в качестве обоснования необходимости базировать общественное устройство на частной морали.
Подходя к вопросу с несколько иной точки зрения, можно сказать, что в традиции гражданских добродетелей «социабильность» (или «интерактивная симпатия», как ее называл Адам Смит) в качестве основания морального сообщества заменяет «добродетель». Это одновременно и более дифференцированная, и более утонченная теория морального сообщества, основанная на совершенно ином понимании социального. Будучи сформулирована более неожиданным образом (хотя и здесь сохраняется связь с Адамом Смитом, психологическая теория которого является, пожалуй, наиболее сложной частью всей традиции гражданского общества), идея совести как внутреннего беспристрастного наблюдателя фактически подменяет собой volonte generate, поскольку добродетель определяется здесь как то, что заслуживает одобрения со стороны беспристрастного наблюдателя.
Это противопоставление внутреннего беспристрастного наблюдателя идее volonte generate составляет, я бы сказал, самую суть вопроса, придавая сделанному нами прежде противопоставлению понятий частной и публичной добродетели историческую специфику и аналитическую утонченность. Ибо хотя поступать в соответствии с volonte generate значит действовать рационально, гарантируя триумф (публичной) добродетели посредством подчинения ей всех частных (приватных) интересов (добавим также, посредством создания нового corps collectif), представление о беспристрастном наблюдателе есть всего лишь индивидуальный (психологический) механизм, при помощи которого, согласно Смиту, становится возможной взаимная симпатия.30 Следует заметить, что Смит не разделял мнения Хатчесона, Фергюсона и других о том, что «симпатия» или «взаимная симпатия» представляет собой особый, не сводимый ни к какому другому тип эмоции — этакую психологическую данность.
Вопреки этому мнению, он считал симпатию функцией той практической добродетели, называемой «уместностью», оценку которой дает «беспристрастный наблюдатель». Не входя в подробности разработанной Смитом сложной и изощренной психологической теории интерактивных эмоций, ограничимся замечанием, что «уместность» (а значит и симпатия) опровергает идею беспристрастного наблюдателя — наблюдателя, характеризующегося беспристрастность, информированностью и приобщенностью к критериям, свойственным сообществу в целом. Вставая в позицию беспристрастного наблюдателя, мы становимся судьями и своего собственного поведения, и поведения других. Говоря словами Смита,
 * Коллектива (фр.)- — Прим. перев.
* Коллектива (фр.)- — Прим. перев.
128 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
«Мы пытаемся анализировать свое собственное поведение так, как, по нашему преставлению анализировал бы его любой другой, справедливый и беспристрастный наблюдатель. Если, поставив себя на его место, мы досконально вникнем во все повлиявшие на это % поведение страсти и мотивы, мы одобрим его, как бы посочувствовав
* тому одобрению, которое вынесет этот предполагаемый справедливый
судья. В противном случае, мы присоединимся к его неодобрению и
осудим это поведение». *3|
Данное умственное упражнение одновременно помогает нам ввести собственные страсти в общепринятые рамки — (делает его уместным) усмиряя интенсивность нашего пережитого опыта в соответствии с существующими критериям, и, что еще важнее, позволяя нам выработать независимую моральную позицию, отстраненную от любой заданной социальной морали. Идея уместности (propriety) как критерия суждений и о наших собственных, и о чужих действиях содержится, согласно Смиту, «в глазах третьей стороны» — того беспристрастного наблюдателя, «внутреннего судьи» (the great inmate of the breast), который выносит беспристрастное суждение относительно конфликтующих интересов.32 Вот как советует нам Смит вести себя при оценивании наших собственных интересов в отличие от интересов окружающих:
«...для сравнения противоположных интересов нам необходимо переменить наше положение: мы должны посмотреть на них не с того места, которое мы сами занимаем, и не с точки зрения человека, находящегося в противоположных условиях, но должны занять положение третьего, постороннего и беспристрастного наблюдателя».33
Как убедительно доказывал Кнуд Хааконссен, именно постоянный поиск нейтральной позиции третьей стороны, позиции нейтрального наблюдателя делает возможным социальную жизнь, так как дает более существенную основу морали, чем переменчивые системы социальных нравов.34
Именно это понимание позволяет Смиту порвать как с предшествующей традицией гражданского общества со свойственной ей наивной антропологи-
 * Опубликованный русский перевод данной работы, к сожалению, не доносит до читателя
* Опубликованный русский перевод данной работы, к сожалению, не доносит до читателя
содержащегося в данной цитате центрального для А.Селигмена выражения impartial
spectator (беспристрастный наблюдатель): «Мы стараемся взглянуть на наше пове
дение так, как на него посмотрел бы, по нашему мнению, беспристрастный и спра
ведливый человек. Если, став на его место, мы разделим все страсти и мотивы, ру
ководившие им, то мы оправдаем самих себя, разделяя чувство одобрения этого су
дьи, которого считаем беспристрастным. В противоположном случае мы разделяем
> чувство неодобрения воображаемого свидетеля и обвиняем себя» (Смит А. Теория
нравственных чувств, Москва: Республика, 1997, с. 122). — Прим. перев.
Публичное и частное... 129
ей и представлениями о прирожденной симпатии, так и с любой вообще приверженностью коллективным нормам и нравам (на современном языке — коим пользуются сторонники идеи гражданства в республиканском понимании — ее, пожалуй, можно назвать «латентным сообществом») приверженностью, составляющей основу традиции гражданских добродетелей. Ведь в шестом (1790 года) переработанном издании «Теории нравственных чувств» Смит отказался от собственной идеи гармоничного общества, в котором общественное мнение можно считать руководством к моральному действию (или добродетели), и предложил вместо нее некий психологический механизм формирования внутреннего чувства совести. По мере того, как место внешнего человека — или общественного мнения — как источника добродетелей занимает «обитатель души»*, под процесс достижения социального блага подводится новое основание. Если сравнить шестое издание с первым, то в нем налицо интернализация беспристрастного наблюдателя, теперь этот последний уже не может быть поверхностно отождествлен с общественным мнением, а добродетель освобождается от связки с публичной сферой.35 Хотя и в этом прочтении люди все еще являются социальными существами, социабильность становится возможной не вследствие растворения личности (в volonte generate), но вследствие конституирования личности посредством более высокой морали (то есть более высокой, чем простой мотив признания и одобрения со стороны «высшего света» — данный мотив в последние десятилетия вызывал у Смита все большее недоверие), носителем которой является беспристрастный, внутренний наблюдатель.36
Поэтому я утверждаю здесь, что мы обладаем совершенно иной моделью добродетели, социальной общности и общего блага (common good), чем та, которую выдвигали различные мыслители, ассоциируемые нами с традицией гражданских добродетелей. Ведь в этой последней общественное благо (public good) преобладает надо всеми частными благами и состоит, в конечном счете, в преодолении корыстных интересов во имя интересов общественных. Это не просто дух публичности, а скорее особое видение человечества, постулирующее публичную сферу в качестве единственной возможности реализовать и воплотить самотождественность отдельно взятого гражданина. В отличие от него, этическая идея традиции гражданского общества является частной, реализующейся в сердцах, душах индивидов, реализующейся через участие индивидуальных социальных акторов в операциях [генерализованного] обмена. Правда, после критики Юмом отношения традиции Шотландского просвещения к разуму становилось все труднее с той же убедительностью говорить о врожденной склонности людей к единению и сочувствию, как это удавалось делать Шефтсбери, Хатчесону и Фергюсо-
 • В русском переводе «обитатель души» (man within the breast, the great inmate of the breast) назван «внутренним судьей». — Прим. перев.
• В русском переводе «обитатель души» (man within the breast, the great inmate of the breast) назван «внутренним судьей». — Прим. перев.
130 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ну.37 Однако, усилиями Адама Смита концепция гражданского общества была обогащена новыми идеями, которые не только отличались особой силой и проницательностью, но и выводили взаимную симпатию из индивидуальной добродетели (это в особенности относится к последнему изданию «Теории нравственных чувств», дополненному рассмотрением темы самообладания).38 Различия между двумя названными традициями политической мысли могут быть с известной степенью схематичности отражены в таблице.
Из этих фундаментальных различий, касающихся так называемой природы добродетели, следуют и иные различия. Они, я думаю, имеют меньшее аналитическое значение, чем предыдущие отмеченные различия (а также не столь непосредственное отношение к нашей теме); поэтому следует лишь упомянуть о них, не подвергая их анализу.
» Гражданское общество Гражданские добродетели
| ■ Сфера добродетели | частное | публичное |
| 1 ■ Определение | моральные чувства; | общность |
| г добродетели | естественная симпатия | |
| и одобрение | ■[ | |
| Механизмы | беспристрастный | volonte generate |
| добродетели | наблюдатель | |
| Модель личности | раздробленная (и потому) | конституированная |
| рефлективная | коллективным,, | |
| ~ ■ ■ | (относительно | сознанием i |
| I i"'- ■ ' | дифференцированная | (относительно j |
| недифференцированная^ | ||
| I Ориентация | внутренняя | внешняя,| |
| 1 личности | ■4 |
Источник: из Adam В. Seligman, «Animadversions upon Civil Society in the Last Decad(of the Twentieth Century», in Civil Society, ed. John Hall (Oxford: Polity Press, 1995), 2Щ
А. Отношение к «различию в талантах»
Традиция гражданского общества обладает более умеренным (или, может быть, амбивалентным) отношением к процессам социальной дифференциации. С одной стороны, социальная дифференциация рассматривает-
.1И?1Э«о11»мэя:: Публичное и частное... 131
ся ею как ведущая к цивилизации и цивилизующему процессу; это в равной мере относится и к Фергюсону, и к Смиту. С другой стороны, если социальная дифференциация перерастает в крупномасштабный процесс, распространяющийся на слишком большую территорию и приводящий к утрате мелких сообществ (а вместе с ними взаимодействий типа «лицом к лицу»), он рассматривается как источник разложения. Об этом красноречивое высказывание Фергюсона:
«[В]ыделение профессий, обещая совершенствование умений и
действительно являясь причиной того, что по мере развития коммерции
: продукты любого ремесла становятся более совершенными, — это
i: выделение, в конечном счете, отчасти служит разрыву существующих
«\ в обществе связей, замене изобретательности некой формой и
отвлечению людей от тех общедоступных занятий, в которых так
счастливо присутствуют чувства и разум... Чем обширней территория,
'■ тем слабее роль частей относительно целого. Население этих частей
-'! утрачивает ощущение связи с государством и редко когда объединяется
для выполнения общенациональных или даже фракционных планов....
'■ Это даже удивительно, что увеличение территории, делая индивида
1 менее заметным для общества, уменьшая долю его участия в
общественных делах, фактически превращает общенародные интересы
в удел более узкого круга людей и сокращает число тех людей, с кем
советуются законодатели или правители».39
В рамках традиции гражданских добродетелей (особенно у Руссо) социальная дифференциация рассматривается к тому же как источник разложения — возможно, даже главный источник — а ведь для Руссо единственной альтернативой жизненной фальши, ведущей к внутреннему разложению, является добродетель. По мнению Руссо, именно различие в талантах как функция жизни в обществе является причиной неравенства и утраты добродетели.40 Заметим также, что традиция гражданских добродетелей фактически является составной частью представлений о городе как об этаком «закрытом» обществе или сообществе неанонимных индивидов, для которых взаимное доверие и взаимная ответственность предполагает наличие духовной общности.41
Б. Источник разложения
На этот вопрос различные авторы отвечали совершенно по-разному, особенно в рамках исторически более древней традиции гражданских добродетелей. Однако, в значительной степени источником разложения (в дополне-
132 Лдам Б. Сслигмен. Проблема доверия.
I
ние к самой вышеупомянутой дифференциации общества) считают внешни факторы (в значительной степени это относится в Англии и Америке XVIII века).42 В своей классической (античной и средневековой) форме данная внешняя сила воспринималась как fortuna*,, влияние которой на человеческие дела могло смягчить только обладание virtu" — или достижение таковой.43 В традиции гражданского общества налицо большее внимание к внутренним разлагаующим влияниям — внутренним для общества и, даже более того, для индивида. Пожалуй, наиболее ярко продемонстрировало это усиливающаяся амбивалентность Адама Смита по отношению к богатству и к «нашей готовности восхищаться богатыми и знатными людьми» и вследствие этого подражать им, для Смита подобное является «первоначальной и главной причиной искажения наших нравственных чувств».44 Таким образом, проблема судьбы уступает место проблеме рыночных связей, своекорыстия и, что гораздо существенней для Адама Смита, проблеме разложения индивидуального сознания. Озабоченность частными интересами, корыстолюбием и проблемой богатства присутствует также и в традиции гражданских добродетелей, особен-] но у Руссо, но между этими двумя традициями есть и важное различие: co-j ответствующие этим традициям проблемы принадлежат к различным ана литическим уровням. Для Руссо эта проблема имеет конститутивное (я Ы, даже сказал — онтологическое) значение в плане нашего общественног бытия, и разрешение ее лежит исключительно на пути достижения доброде-1 тели через подчинение общей воле. Говоря словами самого Руссо, «все не-' равенство, ныне преобладающее в обществе, обязано своей увеличивающейся силой и своим распространением развитию наших способностей и прогрессу человеческого разума; с установлением же собственности и законов оно обретает постоянство и легитимность».45 В рамках же традиции гражданского общества проблема частных интересов имеет более «тактический» характер; она становится проблемой только когда приобретает крайнюю форму, и угроза алчности возникает только в случае неопосредованности ее совестью и присутствием внутреннего беспристрастного наблюдателя. Внутри этой традиции, как мы уже видели, частичность приватность, индивиду-j альность обладают той валидностью, которой они лишены теории РуссоЦ вообще во всей вообще традиции гражданских добродетелей, частью кот рой является эта теория.
Какова моральная основа социальной солидарности в обеих традициях:11 что делает общество гражданским и\или добродетельным, что сделало его таким, каким оно является? — этот вопрос должен быть сформулирован нами с позиций нашей большей осведомленности в плане «этики», социологии и истории, а также с оглядкой на современные проблемы как Запада, так и Во-
" Судьба {лат.). — Прим. перев.
" Добродетель (лат.). — Прим. перев.
J
шестой, «w. Публичное и частное.:., 133
стока. Значение данного вопроса для современных дискуссий между универсалистами и коммунитаристами, для защитников либеральной или республит канской версий гражданства и, что еще важнее, для сегодняшней политической ситуации во многих частях мира не нуждается в разъяснении.
Ведь дебаты вокруг либеральной или республиканской версий гражданства во многих отношениях есть не что иное, как новая, приспособленная к современности формулировка противоположных взглядов на понятия гражданства, индивида и общего блага, являющиеся частью обеих рассматриваемых нами традиций политической мысли. Либеральная (или, как еще ее на-чывал Чарльз Тейлор, «процедурная») теория рассматривает общество как собрание морально автономных индивидов, каждый из которых обладает собственным представлением о жизненном благе; при этом функция общества ограничивается обеспечением правового равенства данных индивидов посредством процедурно справедливого (или процедурно безупречно) процесса демократического принятия решений в публичной сфере.46 Задачей такого общества является не навязывание индивидуальным социальным акторам, составляющим общество, тех или иных нравственных взглядов, а обеспечение бесперебойного функционирования универсально применимых принципов справедливости (или права).
Что же касается республиканской версии понятия гражданства, то она, напротив, выдвигает концепцию общества как «морального сообщества», целью которого является достижение общего блага (common good), онтологически первичного по отношению к любому его отдельно взятому члену. При данном понимании содержание таких понятий, как индивидуальность и сообщество претерпевают определенные изменения, поскольку — как это следует из критики Санделом Роллза — не может быть, чтобы личность достигла «ситуативной радикализации» или «неуязвимости» в такой степени, чтобы это освобождало бы ее от нравственно обязывающих и основополагающих связей с тем или иным конкретным сообществом.47 Для того, чтобы узнать в этих разноречивых суждениях (слегка модифицированные) отголоски донесенных до нас сквозь столетия взглядов Смита и Руссо, нет нужды в специальном анализе.
Однако, то, что в стенах Гарварда, Мак-Жилла или Принстона обсуждает
ся в чисто теоретическом плане, в других частях света является предметом не
столь цивилизованных и академических дебатов. Повсеместно в Восточной и
Центральной Европе, в Венгрии, Словакии, государствах Балтии, в Чешской
республике и других местах политические устройства, создающиеся на прин
ципах гражданственности, все без исключения заняты борьбой вокруг опре
деления новых принципов социальной организации и солидарности, руковод
ствуясь при этом ошибочным отнесением всего и вся к одному из двух прин
ципов — огрубление их можно обозначить как принцип «демоса», либо прин
цип «этноса»; в основе же этой двойственности принципов лежат две проана
лизированные выше модели.48 ■;.•;.•:.■; ■_/,-J;,.:■ v
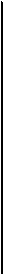 134 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
134 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
Как убедительно утверждалось в статье Йоава Пеледа, посвященной по* ] ниманию гражданства в современном Израиле, любое конкретное государе j ственное устройство возможно определять не только как принимающее одну или другую из этих моделей, но и (особенно в этнически разнородных обществах) как смешение того и другого, а значит их можно определять и как государственные устройства, по-разному трактующие такие понятия, как общность и солидарность или обязанности и права гражданства в различных этнических группах общества.49
Поэтому первостепенное значение для этой дискуссии (несмотря на то, ведется ли она на Западе, на Востоке или на Ближнем Востоке) имеет конкретное концептуальное наполнение понятий солидарности или членства в рамках представленных обсуждаемыми традициями различных моделей политической теории (а значит и гражданства). Выявленные нами концептуальные расхождения связаны с особенностями понимания обсуждаемыми традициями личности и общества. Так, если для либерально-индивидуалистской (или универсалистской) традиции, являющейся порождением идеи гражданского общества, модель солидарности равнозначна одному из актов [генерализованного] обмена между морально автономными деятельными индивидами, то в коммунитаристской традиции или в традиции республиканского гражданства эта модель чаще всего строится исходя из примордиальных или аск-риптивных критериев. Это видно даже из характеристики, данной Санделом индивидам «как членам этой семьи или сообщества или нации или народа, как носителям этой истории, как сыновьям и дочерям этой революции, как гражданам этой республики» (курсив мой. — А. С), к которым, можно добавить, я испытываю «лояльность» и «обязанности», выходящие за пределы того, «чего требует или даже позволяет справедливость».50 В этом случае следует отметить не только те конкретные условия, в которых находится каждая личность, но и преимущественно примордиальный или аскриптивный характер этих условий.
В этом, рискну предположить, заключена истинная проблематичность не только идеи республиканского гражданства, но и всех традиций политической мысли, восходящих к традиции гражданских добродетелей — особенно, если рассматривать их как все еще актуальную задачу и как нечто не связанное с военной деятельностью (неудивительно, что в контексте этой традиции существенным компонентом гражданской добродетельности считается мужество). Ибо несмотря на присущую этой идее сильную эмоциональную окраску и предлагаемые ею на первый взгляд убедительные решения некоторых серьезных проблем гражданства в его современном понимании, несмотря на всю популярность этой идеи, сформулировать такую модель гражданских добродетелей, которая была бы свободна от первородного содержания, практически невозможно. Ведь в последовавшем за Французской революцией становлении (пусть частичном и прерывистом) универсальных принципов граж-
.К1«;»вед.шжл Публичное и частное... 135
данства можно найти некоторое объяснение процессу постепенного вытеснения этого направления социальной мысли идеями, восходящими к традиции гражданского общества.
Не удивительно, что последовательное развитие модели солидарности, исходя исключительно из принципов политической добродетели, представляло постоянную проблему для представляющих эту традицию мыслителей. На стадии раннего модернизма это проявлялось в виде проблемы взаимосвязи «провидения» и судьбы (fortuna), «милосердия» и добродетели (virtu) — соотношений, наиболее полно исследованных Пококом, подчеркивавшим всю сложность осуществления добродетели без посредничества пророческого милосердия.51 Отметим, что единственным реальным примером «институци-онализации» virtu является Америка в XVIII веке, где (что существенно) также не обошлось без участия милосердия (правда, в секуляризованном и национализированном варианте).52 В этом главное, ибо, если мы исключим эмоциональную преданность идее, возникающую в результате либо революционных восстаний, либо войн с иноземцами, и будем исходить из наличия высоко дифференцированных обществ, в которых уже невозможно ничем не опосредованное существование гражданина в полисе (и если мы к тому же сбросим со счета тоталитарные последствия господства публичной воли), что из оставшегося сможет в этом случае служить основанием добродетели? Тот факт, что решение этой проблемы — да и то лишь частичное — было найдено в Америке XVIII века, имеет чрезвычайную важность. Ибо там, в отсутствие аскриптивного или примордиального представления о сообществе (данные понятия, как явствует из приведенной выше цитаты из Сандела, сохраняют значение и в республиканских разновидностях концепции гражданства) установилось «идеологическое сообщество»; у него было много общего с предшествующими пуританскими традициями, свойственными религиозным общинам — речь идет о некой секуляризованной разновидности общества милосердия.53 То, каким образом возможна институционализация virtu в отсутствие названных предпосылок, остается открытым вопросом, имеющим вместе с тем решающее значение — ибо подобное, я бы сказал, в конечном счете подрывает идеал гражданских добродетелей. Здесь нужно сделать необходимые разъяснения. Подобное является проблемой (точнее проблемой неразрешимой), только когда мы исключаем (нормативную) возможность наличия у политического сообщества примордиальных оснований, предполагающих участие в функционировании единых для всех политических институтов в качестве единственного способа реализации добродетели. Ведь из теоретиков современности подобный идеал (в несколько утопическом виде) постулировала только Аренд. Все прочие, включая авторов современных версий республиканского гражданства, считают аскриптивное членство в той или иной степени необходимым компонентом традиции гражданских добродетелей (ран-несовременной версией которой — версией Руссо и других — было пред-
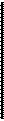 136 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
136 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
ставление о малых сообществах, объединенных общей историей, тесными| взаимодействиями и пр.).54 Так ли это и, если так, то почему, — вопрос дру-: гой, и ответ на него в конечном счете зависит от того, какую концепцию философской антропологии исповедует тот, кто ищет ответа на данный вопрос. Правда, попытки сконструировать связующую «традицию», а значит и устойчивое сообщество (моральное или какое-то другое), не опираясь при этом на некоторые изначальные «данности» — предприятие безнадежное, как в историческом, так и в теоретическом плане.55 Опять же, в этом отношении частичным исключением являются Соединенные Штаты, в частности Америка XVIII века, где первородная составляющая была заменена, правда, лишь отчасти, «трансцендентной» основой политических институтов, составляющих государственное устройство, ориентированное на милосердие и традиции сообщества праведников. В отсутствие обоих этих принципов, выполняющих роль опор для добродетели, установление морального сообщества (скажем, такого, которое базируется исключительно на принципах политики участия) оказалось невозможным.
Интересно, что идея гражданского общества в том ее виде, в каком она существовала во второй половине XVIII столетия в Шотландии, возникла в ответ на необходимость создания модели солидарности и общности, свободной от примордиальных атрибутов. Поражение якобинских восстаний 1715 и 1745 годов и воспоминания о битве при Калдене 1746 года — все это были красноречивые напоминания о неспособности существующих национальных (или этнических) версий солидарности служить основанием политической идентичности в контексте усиления дифференциации и взаимосвязанности коммерческих экономик средневековых Шотландии и Англии.56 Так, сравнив Фергюсона со Смитом, можно обнаружить становление нового, «универсалистского» и все более «индивидуалистического» базиса конструирования жизни сообщества — базиса, которому суждено было стать окончательной версией тех устоев, на которых зиждутся либерально-индивидуалистические принципы гражданства.
Однако, содержащиеся в этом идеале модели солидарности и общности привносили собственный набор противоречий, несколько отличавшихся по природе от ранее проанализированных противоречий традиции гражданских добродетелей. Нам известно, что в конечном счете идея гражданского общества нашла опору в представлении об автономном, нравственном и деятельном индивиде, этаком столпе социального строя. (Гегель и Маркс отвергали подобный вывод, но тем самым они отвергли и идею гражданского общества как нравственного идеала и, каждый по-своему, вышли за его пределы.) Данная идея морального индивида стала основой либеральных политических убеждений и в этом качестве она была институциализирована либерально-демократической политикой. В процессе институциализации предшествующие ей, довольно убедительные концепции общности, а, следовательно, и гражданского
Публичное и частное... 137
равенства между индивидами были заменены формальными, правовыми и (в разной степени в разных странах) экономическими гарантиями. Фактически, это и есть атрибуты гражданства, как их описал Т. X. Маршалл, расширив и формализовав общность автономных индивидов в различных сферах объединяющей их общественной жизни.57 Нынешнюю озабоченность вопросом прав можно считать продолжением того же процесса в различных сферах.
Однако, логика развития данного процесса отличается парадоксальностью. Ибо чем более определяющими в отношениях между индивидами становятся абстрактно-правовые, формальные критерии (то, что Гидденс зовет «абстрактными системами»), тем меньшее значение имеет для абстрактной сферы объединяющая их солидарность, основанная на конкретных связях исторического, идейного, любовного, оберегающего, дружеского характера.58 По мере того, как сфера публичных взаимодействий все более определяется абстрактной рациональностью (рациональностью, которую Вебер именовал «инструментальной»), тем в меньшей степени реализуются устремления к общности и доверию (или, возможно, их реализация становится менее заметной) в публичной сфере. Одним из следствий подобной тенденции является то, что все труднее становится представить социальную жизнь в терминах публичной сферы, а также (наиболее заметно это, пожалуй, в Соединенных Штатах) отобразить порой частные, а порой просто отдельные сущности и интересы как общественные — как нечто такое, что реально определяет общественное благо (public good). Я даже рискнул бы утверждать, что составной частью этой динамики является интерес к мультикультуризму, к поддержанию (часто этнических) групповых солидарностеи в противовес прежней идеологии «плавильного котла». Короче говоря, по мере сокращения публичной сферы, уступающей под мощным напором гражданских составляющих жизни общества (их формализующего и институциализующего воздействия), ее место занимает особенное, а зачастую и частное как альтернативные виды общественной символики. С той же динамикой, что и данные (не столь теоретически значимые) проявления связано возрождение Санделом, Макинтайром и другими аргументации в духе «республиканской» концепции гражданства.
Таким образом, перед нами встает проблема осмысления гражданства с точки зрения участия в публичной сфере (традиции добродетели, республиканского гражданства), не акцентируя при этом примордиальные, аскриптив-ные элементы общинной идентичности. (Как, например, возможно обсуждение «латентного сообщества» — этого излюбленного выражения представителей западной традиции республиканского гражданства — придунайских народов без евреев?) Если поставить вопрос несколько по-иному, то мы имеем дело с проблемой сохранения добродетели — но сделать это мы должны при помощи концептуальных и институциональных средств, соответствующ
 2015-05-15
2015-05-15 533
533







