"■'■'■"" IN"-"— и II II I - I- ^
Сложность реальных систем, их зависимость от множества различных факторов заставляют ученого упрощать, огрублять и схематизировать исследуемые явления. Поэтому вместо конкретных объектов действительности он вводит идеализированные, абстрактные объекты, отношения между которыми приблизи-j тельно верно отображают существенные связи между реальны-^ ми предметами и процессами. Свойства таких абстрактных объ-| ектов выражаются с помощью исходных, первоначальных по! нятий теории, а логические отношения между ними — либо посредством аксиом (в математике) или основных законов тео! рии (в конкретных науках). Следовательно, такие законы описывают взаимосвязи, не между элементами реальных систем, а между теми абстрактными объектами, с помощью которых отображается эта реальная система. В механике, например, такой системой является система «точечных масс», или материальных точек, движущихся под действием внешних сил, в электродинамике — система векторов электрической и магнитной напряженности, в генетике — система генов, в социологии — система социальных действий и т. п. Движение материальных точек под действием силы описывается тремя основными законами Ньютона; уравнения Максвелла позволяют выразить взаимодействие векторов электрической и магнитной напряжен-ностей; законы Менделя, а теперь и молекулярной генетики характеризуют распределение генов при наследовании признаков; законы социологии, хотя и меньшей общности, характеризуют результаты социальных взаимодействий.
|
|
|
Такого рода системы абстрактных объектов вместе с законами, описывающими взаимосвязи и взаимодействия между ними, имеют смысл и значение только потому, что они относительно верно отображают существенные свойства и отношения элементов реальных систем. Именно поэтому подобные системы абстрактных объектов характеризуют специфику научной тео1 рии и играют главную роль в ее построении. Чтобы подчеркнуть определяющую роль такой системы в формировании тео-
рии, ее называют концептуальным ядром теории, базисом или фундаментальной теоретической схемой.
Поскольку подобная система теоретических объектов в определенной мере может замещать изучаемую реальную систему, то ее можно рассматривать так же как абстрактную модель. В точных науках отношения между абстрактными объектами модели выражаются с помощью различных уравнений и их систем. В других — посредством содержательных утверждений об отношениях между исходными объектами описательной модели. Если эти отношения приблизительно верно описывают взаимосвязи между величинами, характеризующими реальные процессы и системы, тогда модель принимается. Когда же возникают заметные расхождения между реальностью и теоретической моделью, тогда модель корректируется, модифицируется или даже отвергается.
|
|
|
1. Теоретические и эмпирические понятия. Исследование структуры любой теории целесообразно начать с анализа ее основных понятий и установления различия и взаимосвязи между теоретическими и эмпирическими понятиями. В первом приближении эмпирические понятия можно определить как понятия о наблюдаемых объектах и их свойствах, а теоретические — о ненаблюдаемых объектах. Такое различие соответствует выделению в процессе познания чувственно-эмпирической и рационально-теоретической ступеней исследования. Нетрудно, однако, понять, что приведенное выше определение является предварительным, поскольку оно не учитывает развития познания, в ходе которого ненаблюдаемые раньше объекты становятся наблюдаемыми, а следовательно, различие между эмпирическими и теоретическими понятиями оказывается относительным и ограниченным рамками времени и условиями исследования. Абсолютизация этого различия не учитывает взаимосвязи между рациональной и эмпирической стадиями исследования, воздействия теоретической мысли на наблюдения и опыт, Которое обычно формулируют в виде тезиса о теоретической: Загруженности» опыта. Именно игнорирование этих фактов и Положений лежит в основе позитивистского деления языка Пауки на обособленные языки чистых наблюдений и язык чистой теории, которое подверглось резкой критике со стороны аНтипозитивистски настроенных ученых и справедливость коброй впоследствии была признана лидерами позитивизма.
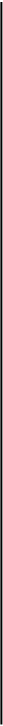 Если связывать эмпирические понятия и соответствующие им термины с наблюдаемыми объектами и их свойствами, ^ теоретические — с ненаблюдаемыми, то относительность такой го противопоставления становится все более очевидной по мере усовершенствования экспериментальной и наблюдательной техники. В самом деле, хотя силу тока в цепи нельзя наблюдать непосредственно, о ней можно судить по показаниям амперметра и поэтому считать ее наблюдаемой величиной. С другой стороны, наблюдения за движением стрелки амперметра основываются на теоретических представлениях о законах электрического тока. Это свидетельствует о том, что граница между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми величинами имеет в известной мере условный, временный и относительный характер ]1 устанавливается опытным путем.
Если связывать эмпирические понятия и соответствующие им термины с наблюдаемыми объектами и их свойствами, ^ теоретические — с ненаблюдаемыми, то относительность такой го противопоставления становится все более очевидной по мере усовершенствования экспериментальной и наблюдательной техники. В самом деле, хотя силу тока в цепи нельзя наблюдать непосредственно, о ней можно судить по показаниям амперметра и поэтому считать ее наблюдаемой величиной. С другой стороны, наблюдения за движением стрелки амперметра основываются на теоретических представлениях о законах электрического тока. Это свидетельствует о том, что граница между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми величинами имеет в известной мере условный, временный и относительный характер ]1 устанавливается опытным путем.
Отсутствие абсолютной границы между эмпирическими щ теоретическими понятиями не исключает возможности и целе! сообразности установления относительного различия межд| ними. Однако это различие связано не столько с наблюдаемость^ соответствующих объектов, сколько со степенью их зависимое! ти от общих теоретических представлений. Хотя эмпирически! понятия «нагружены» теорией и зависят от нее, но их адекват| ность и обоснованность устанавливается в значительной мере независимо от теории, в которой они применяются.
Теоретические термины, как мы видели, вводятся в научны! язык для описания свойств и отношений абстрактных объектш определенной идеализированной системы. Поскольку они являются абстракциями от реальности, то их нельзя непосредственно сем относить с наблюдаемыми предметами, их свойствами и отно» шениями. Поэтому адекватность теоретических понятий, как! истинность теоретических утверждений, может быть установлен! только посредством их эмпирической интерпретации. Все эЯ показывает, что эмпирические и теоретические понятия те<| нейшим образом связаны между собой. В историческом развн тии познания они обусловливают и дополняют друг друга.
|
|
|
Эмпирические понятия представляют первый шаг в хоДе сложного и противоречивого процесса все более глубокого п! стижения действительности. На уровне обыденного познания о» совпадают с названиями и описаниями чувственно воспринимаемь! и наблюдаемых предметов и явлений. На эмпирической стада познания в науке вводятся уже понятия с более точно определе! ным смыслом, чем термины обыденного языка, но они по-прежнел обозначают либо непосредственно наблюдаемые предметы и I
свойства и отношения, либо предметы и свойства, которые могут наблюдаться с помощью различных приборов, устройств и инструментов, которые, по сути дела, являются продолжением и усилением наших органов чувств.
Переход от эмпирических понятий к абстрактным, теоретическим понятиям представляет собой диалектический скачок от чувственно-эмпирической стадии исследования к рационально-теоретической. С помощью последней становится возможным отобразить чувственно невоспринимаемые.свойства и отношения предметов и процессов реального мира, т. е. то, что обычно обозначают как сущность. Но так как сущность непосредственно не воспринимаема, то для ее интерпретации вводят эмпирические понятия и утверждения, посредством которых сущность обнаруживается или является. На этом основании сторонники эмпиризма, инструментализма, бихевиоризма и опе-рационализма пытались свести, и даже исключить, теоретические понятия и термины из научного языка. Эмпиристы считали возможным свести теоретические понятия к эмпирическим путем определения правил соответствия между ними, инструменталисты рассматривали «понятия вообще» как некоторые инструменты для приспособления людей к окружающей действительности, бихевиористы полагали, что внутренние стимулы и интенции высших животных и человека всецело проявляются в их внешнем поведении. Операционализм, который связан главным образом с идеями выдающегося американского физика П. Бриджмена, настаивает на том, что содержание понятий эмпирических наук, в частности физики, определяется посредством операциональных определений, которые устанавливают совокупность измерительных операций для этого. Поскольку в таких целях могут быть использованы различные операции измерения, Постольку в этом случае приходится допустить существование не одного-единственного понятия, а целого семейства родственных понятий, что значительно усложняет теорию.
|
|
|
Первая и важнейшая функция теоретических понятий состоит в том, что с их помощью достигается дедуктивная систематизация научного знания, которая предполагает также использование теоретических утверждений. Выявив основные понятия и исходные утверждения теории, мы можем по правилам Дедукции вывести из них все другие утверждения, в том числе И те, которые допускают эмпирическую интерпретацию.
6 Рузавия Г.И. 159
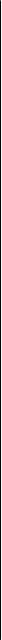 | 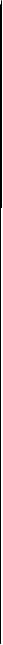 | ||||
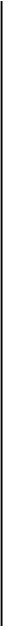 | |||||
| Вторая методологическая функция теоретических понятие ^це и существенные свойства исследуемых предметов и про-связана с их применением как для объяснения эмпирически ц6ссов, постольку они позволяют формулировать наиболее глу-обобщений и законов, так и для их теоретического обобщени g0iaie теоретические законы и принципы. и расширения научного знания. Эмпирические обобщения ] 2. Аксиоматический метод служит важнейшим средством для законы обнаруживают определенную регулярность в функцио аНализа структуры теорий математики и точного естествознания, нировании предметов и явлений, которая оказывается, однако хоТЯ он больше известен.как метод их построения. Преимущества ограниченной рамками наблюдения. Они также не объясняю! эТого метода были осознаны еще в V в. до н. э. и реализованы |
механизм или причину такой регулярности. Например, много численные наблюдения убеждают нас в том, что дерево не то! нет в воде, а железо — тонет. Однако такое обобщение буде1 верно только относительно воды и, кроме того, даже в случае дерева и железа имеет ограниченный характер. Существуют сорта дерева, которые тонут в воде, например, растущее в Шри Лан| ка железное дерево. В свою очередь, из железа можно изгото вить полый шар, который не будет тонуть в воде. Чтобы объяс! нить эти факты и обобщить первоначальное утверждение, в наук! вводят понятие объемной плотности, которое определяют как от| ношение массы тела к его объему, т. е. р = т/у, где т — масса, — объем. Посредством введения нового теоретического поня! тия (плотности) становится возможным объяснить новые фак[ ты и утверждать, что когда плотность тела будет меньше плот| ности воды или другой жидкости, то тело будет плавать на их поверхности, если плотность тела будет больше, то оно потонет.
Третья методологическая функция теоретических понятий заключается в систематизации эмпирического и теоретического знания. Такая систематизация осуществляется не только с поГ мощью исходных посылок теории, но и ее первоначальных тео; ретических понятий. Поскольку в указанных понятиях описы! ваются существенные свойства абстрактных объектов теории] то без них невозможна никакая систематизация научного зна1 ния вообще.
Четвертая методологическая функция теоретических поня! тий связана с развитием этого знания. Такое развитие характе] ризуется, прежде всего, изменением концептуального и, в пер| вую очередь, понятийного содержания знания, в ходе которог! одни понятия уточняются и модифицируются, другие — углуб! ляются и расширяют объем.
Пятая методологическая функция понятий теории заключа! ется в их эвристической, и особенно прагматической, роли 1 развитии и применении научного знания. Поскольку в аб| страктных теоретических понятиях отображаются наиболее об|
позднее, в III в., Евклидом при построении системы знании по элементарной геометрии. Когда теория излагается неаксиоматиче-ским способом, то ее структра, т. е. логическая связь между различными утверждениями и понятиями, остается нераскрытой. Более того, некоторые ее основные понятия и допущения хотя, и подразумеваются, но явно и точно не формулируются. Чтобы преодолеть эти недостатки, при аксиоматическом построении теории точно разграничивают минимальное число исходных понятий и утверждений от остальных.
Построение аксиоматической системы начинается с выявления первоначальных, основных понятий теории, которые в ее рамках рассматриваются как неопределяемые. По мере введения новых понятий их стремятся определить с помощью основных определений по логическим правилам. Однако решающий шаг в создании аксиоматической теории связан с установлением тех исходных утверждений, которые служат посылками всех дальнейших выводов, и поэтому в ее рамках принимаются без доказательства. Эти утверждения называются по-разному в различных теориях. В математических науках по установившейся традиции их именуют аксиомами или утверждениями, не требующими доказательства. В античной науке они принимались без доказательства потому, что считались самоочевидными и общепризнанными истинами, о чем свидетельствует сама этимология древнегреческого слова axioma, означающего признание, авторитет, достоинство.
Такой взгляд на аксиомы был широко распространен в математике почти вплоть до первой трети XIX в., когда были открыты неевклидовы геометрии, и тем самым было показано, Что в качестве аксиом могут быть приняты и утверждения, сов-СеМ неочевидные с точки зрения здравого смысла. Так, например, в геометрии Лобачевского вместо аксиомы Евклида, что к •Чанной прямой на плоскости через заданную точку можно пролети единственную параллельную прямую, принимается про-Т11Воположное утверждение: таких параллельных может быть
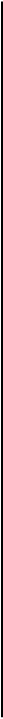 несколько, а в принципе — бесчисленное множество. Тем не! менее представление об аксиомах как самоочевидных истинах! до сих пор сохранилось если не в математике, то в обычной и! даже научной речи. Действительно, когда то или иное положе-| ние не вызывает сомнений и кажется очевидным, то его назы-1 вают аксиомой. Однако очевидность в силу своего субъек-1 тивного характера не может служить критерием истины. Ведь! то, что кажется очевидным одному, может показаться совсем! неочевидным другому. В современной науке аксиомы прини-1 маются без доказательства не потому, что они считаются оче-! видными, а потому, что они необходимы для доказательства! теорем. Доказательство же самих аксиом потребовало бы обра-1 щения к другим утверждениям и, в конце концов, привело бья к регрессу в бесконечность.
несколько, а в принципе — бесчисленное множество. Тем не! менее представление об аксиомах как самоочевидных истинах! до сих пор сохранилось если не в математике, то в обычной и! даже научной речи. Действительно, когда то или иное положе-| ние не вызывает сомнений и кажется очевидным, то его назы-1 вают аксиомой. Однако очевидность в силу своего субъек-1 тивного характера не может служить критерием истины. Ведь! то, что кажется очевидным одному, может показаться совсем! неочевидным другому. В современной науке аксиомы прини-1 маются без доказательства не потому, что они считаются оче-! видными, а потому, что они необходимы для доказательства! теорем. Доказательство же самих аксиом потребовало бы обра-1 щения к другим утверждениям и, в конце концов, привело бья к регрессу в бесконечность.
Какие утверждения теории выбираются в качестве аксиом,! зависит нередко от задач исследования и поставленной проЯ блемы. Возникает вопрос: чем руководствуется исследователь,! когда то или иное утверждение теории выдвигает как аксиомуЯ Таким критерием не может служить ни очевидность, ни про Л стота, ни другое субъективное требование. Чтобы служить акЯ сиомой, т. е. исходной посылкой для выводов, утверждение должно быть логически сильнее всех других, которые выводят-! ся из него как следствия. Система аксиом теории потенциально! содержит все следствия, или теоремы, которые с их помощью! можно доказать. Таким образом, в ней сконцентрировано все существенное содержание теории.
В зависимости от характера аксиом и средств логического | вывода различают:
1) формализованные аксиоматические системы, в которых ак-1 сиомы представляют собой исходные формулы, а теоремы поЩ лучаются из них по определенным и точно перечисленным! правилам преобразования, в результате чего построение си-! стемы превращается в своеобразную манипуляцию, или игру, с] формулами. Обращение к таким формализованным системам! необходимо для того, чтобы максимально точно представить! исходные посылки теории и логические средства вывода. О том, какое значение имеет такой подход, свидетельствует истов рия возникновения геометрии Лобачевского. Многие его пред*! шественники пытались доказать аксиому о параллельных Ев* клида, которая казалось им неочевидной и достаточно сложной! в сравнении с другими аксиомами. Некоторые ученые даже веМ
рции, что им удалось доказать ее. Но последующая критика обнаруживала логические дефекты в их доказательствах. Безуспешность этих, как и собственных попыток Лобачевского, доказать эту аксиому Евклида, привела его к убеждению, что возможна совсем другая геометрия. Если бы в то время существовало учение об аксиоматике и математическая логика, то ошибочных доказательств можно было бы легко избежать;
2) полуформализованные или абстрактные аксиоматические системы отличаются от формализованных тем, что в них средства логического вывода не рассматриваются, а предполагаются известными, а сами аксиомы хотя и допускают множество интерпретаций, но не выступают как формулы. С такими системами обычно имеют дело в математике;
3) содержательные аксиоматические системы предполагают одну-единственную интерпретацию, а средства логического вывода — известными. Они используются главным образом для систематизации научного знания в точном естествознании и других развитых эмпирических науках.
Таким образом, аксиоматические системы в эмпирических науках не могут не отличаться от математических. Прежде всего в математике в силу отвлеченного характера ее понятий и суждений имеют дело с абстрактными аксиоматическими системами, которые допускают самые различные конкретные интерпретации. Правда, такой взгляд на математические теории возник не сразу. Достаточно отметить, что геометрия Евклида долгое время считалась содержательной аксиоматической системой, ибо в ней точки, прямые и плоскости интерпретировались как идеализированные образы пространственных объектов. Постепенно такой взгляд на аксиомы геометрии и математики в целом радикально изменился, и теперь их рассматривают как абстрактные формы, или структуры, которые допускают самые разнообразные интерпретации.
Существенное отличие математических аксиом от эмпирических заключается также в том, что они обладают относительной стабильностью, в то время как в эмпирических теориях их содержание меняется с обнаружением новых важных результатов опытного исследования. Именно с ними постоянно приходится считаться при разработке теорий, поэтому аксиоматические системы в таких науках никогда не могут быть ни полными, ни замкнутыми для вывода.
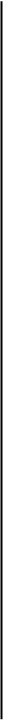
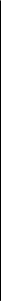 не получила признания. Положение осложняется тем фактом,; что к интуиции нередко относят «все интеллектуальные меха-j низмы, о которых не знаем, как их проанализировать, или дажй точно назвать»1.
не получила признания. Положение осложняется тем фактом,; что к интуиции нередко относят «все интеллектуальные меха-j низмы, о которых не знаем, как их проанализировать, или дажй точно назвать»1.
>- Эмпирические и рациональные факторы связаны с оценкой их роли и отношения в построении теории. Естественно, что! речь в данном случае идет об эмпирических или фактуальных] теориях, которые дают всю систематизированную и целостную] информацию о реальном мире.
Эмпирические факторы теории составляют ее наблюдаемый и экспериментальный базис, т. е. ту первичную информацию] на которой основываются все ее абстрактные понятия и утвер-4 ждения. С точки зрения различных направлений философий эмпиризма (позитивисты, феноменалисты, бихевиористы, инструменталисты и другие) единственно надежным и прочным в] теории является именно ее эмпирический базис, прежде всего, ее факты, которые можно непосредственно наблюдать и проверить. Все же остальное представляет собой рациональную, умо-1 зрительную конструкцию, которая служит для обобщения, си-; стематизации, более компактного и удобного представления большого массива эмпирической информации.
Такой подход к построению теории был намечен еще Ф. Бэконом, который считал, что ее формирование сводится к постепенному и осторожному обобщению путем индукции точно установленных эмпирических фактов, пока не будут найде-' ны такие общие законы, с помощью которых можно объяснить все известные факты. Поскольку с помощью индуктивных ме-1 тодов могут быть найдены лишь простейшие эмпирические законы о регулярных связях между наблюдаемыми свойствами явлений, то они не могут стать посылками для подлинно науч-j ных теорий, призванных объяснить не только факты, но и эм| лирические законы. В связи с возникновением в науке более общих и глубоких теорий, опирающихся на ненаблюдаемые объекты и абстрактные понятия, во второй половине XIX в. в методологии науки вновь происходит возврат к эмпиризму, ко-] торый сводится к превращению теории в простую дескрипцию, или описание, фактов.
Сторонники дескриптивизма утверждают, что построение теории сводится к наиболее точному и непредвзятому описа-
няю фактов, а поскольку факты обнаруживаются на эмпирической стадии исследования, то защитников таких взглядов также можно отнести к эмпиристам. Но они занимают более радикальную позицию, считая, что факты сами по себе достаточны для научного познания, а поэтому они рассматривают теорию просто как логическую систематизацию фактов, как косвенное их описание. Такие взгляды в конце прошлого века настойчиво пропагандировали известный австрийский физик и философ Э. Мах и немецкий физико-химик В. Оствальд.
Мах, например, утверждал, что то, что мы называем теорией, или теоретической идеей, относится к категории косвенного описания, которое придает ей количественное преимущество перед простым наблюдением, тогда как качественно между ними нет никакой существенной разницы1. Выход за пределы наблюдаемого, введение атомов Демокритом и Дальтоном, возрождение вихрей Декарта в электромагнитной теории и т. п. теоретические представления, по его мнению, составляют «почтенный шабаш ведьм». Появившуюся в тогдашней физике атомно-молекулярную теорию вещества он назвал «мифологией природы».
Защитники рационализма напротив утверждают, что только абстрактные понятия и утверждения (аксиомы, законы и принципы), составляющие концептуальное ядро теории, могут объяснить эмпирические факты и законы. Поэтому исходным пунктом построения теории должно стать выдвижение абстрактных понятий и фундаментальных гипотез, из которых по правилам дедукции может быть получена остальная часть теории, т. е. другие ее теоретические и эмпирические утверждения (факты и эмпирические законы). Рационалисты правы, когда заявляют, что теоретические понятия и законы не могут быть получены непосредственно из наблюдений и опыта, но они ошибаются, когда утверждают, что процесс генерирования понятий и законов не поддается никакому контролю. Поэтому К. Поппер, например, сводит такой процесс к непрерывным Догадкам и опровержениям, Т. Кун — к отказу от старой парадигмы и принятию новой парадигмы на чисто субъективных основаниях. Сторонники гипотетико-дедуктивного подхода вообще отказываются, как мы видели, от исследования генезиса
1 Буше М. Интуиция и наука.— М.: Прогрес, 1967.—С.93.
1 Мах Э. Познание и заблуждение.— М.: Скримунт, 1908.
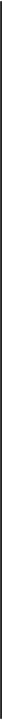
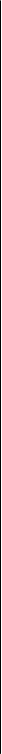
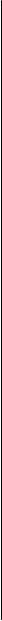
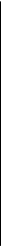 научных гипотез и теорий. Хотя процесс построения теории нельзя регламентировать какими-либо жесткими правилами и схемами, тем не менее его можно контролировать, с одной стороны, посредством логики, а с другой — опыта.
научных гипотез и теорий. Хотя процесс построения теории нельзя регламентировать какими-либо жесткими правилами и схемами, тем не менее его можно контролировать, с одной стороны, посредством логики, а с другой — опыта.
Что касается общих методологических принципов построения любой научной теории, то здесь следует обратить внимание преж-J де всего на необходимость схематизации и идеализации изучаемой области действительности. Поскольку теория представляет собой определенную концептуальную систему, или модель, реальности,] постольку для ее создания необходимо прежде всего выделить наиболее общие и существенные свойства элементов реальных систем. А для этого необходимо абстрагироваться от всех второсте»] пенных и несущественных для данного исследования черт, особенностей и свойств элементов реальных систем. От того, какие] свойства или характеристики при этом выделяются как суще-, ственные (эта процедура отнюдь не сводится к механической, а является подлинно творческой задачей) зависит успех всего дальнейшего исследования.
В качестве исторического примера можно указать на разные подходы Декарта и Ньютона к образованию понятия количества движения в механике. Оба они считали, что количество! движения тела зависит от его скорости, однако Ньютон в качестве другой важной его характеристики выбрал массу тела, а Декарт — его объем. Но для определения динамических свойств] тела эта геометрическая характеристика оказалась несуще-] ственной. Вот почему механика Декарта оказалась на уровне умозрительной концепции, в то время как динамика Ньютона стала основой всей классической физики. Отсюда видно, что' процесс абстрагирования представляет отнюдь не такую! простую операцию, как это представлялось сторонникам эмпи-1 рической концепции, например, Д. Локку. «Если из сложных] идей, означаемых именами "человек" и "лошадь", — писал он,| — устранить те особенности, которыми они различаются, удержать только то, в чем они сходятся, образовать из этого] новую, особую сложную идею и дать ей имя "животное", то получается более общий термин, обнимающий вместе с челове-] ком различные другие существа»1. Такой чисто формальный] подход в лучшем случае годится для образования самых эле-]
ментарных эмпирических понятий, но он явно не подходит, например, для образования простейших математических понятий. Ведь к понятию геометрической точки или прямой линии нельзя прийти путем отбрасывания эмпирически наблюдаемых свойств предметов и сохранения некоторого общего их свойства. Все подобные понятия образуются путем процесса идеализации, т. е. создания таких воображаемых объектов, свойства которых отсутствуют у реальных предметов. В физике такими понятиями являются «идеальный газ», «несжимаемая жидкость», «абсолютно черное тело» и т. п. В социологии М. Вебера к ним приближаются мысленные конструкции, которые он называет «идеальными типами». По его словам, они «быть может так же мало встречаются в реальности, как физические реакции, которые вычислены только при допущении абсолютно пустого пространства»1.
Идеализация чаще всего связана с мысленным экспериментом, в ходе которого ученый теоретически осуществляет некоторые операции, которые нельзя проделать эмпирически ни в каком реальном опыте. О том, какое значение мысленный эксперимент играет в формировании теорий, свидетельствует история формирования классической механики. Повседневный опыт показывает, что тело будет двигаться тем быстрее, чем сильнее воздействие на него. Отсюда можно заключить, что движущееся тело сразу же" остановится, как только перестанет действовать на него сила. Этот вывод, сделанный Аристотелем, в течение двух с половиной тысячелетий считался непреложной истиной. Чтобы опровергнуть его, Галилей обратился к такому мысленному эксперименту. Допустим, что сила, заставлявшая тело двигаться, вдруг перестала действовать. После этого тело пройдет еще некоторое расстояние, причем оно будет тем больше, чем меньше на него будут воздействовать силы трения, сопротивления воздуха и т. п. Если теперь мысленно представить, что все эти силы перестанут действовать, тогда тело либо будет двигаться с постоянной скоростью, либо останется в покое. Следовательно, скорость тела не показывает, действуют ли на него внешние силы. «Открытие, сделанное Галилеем, и применение им метода научного рассуждения, — пишут Эйнштейн и Инфельд, — было одним из самых важных достижений в ис-
Локк Д. Опыт о человеческом разуме—М., 1898.—С. 406,407.
1 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft, 2—Koln»— Berlin,1964.— S.10.
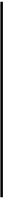
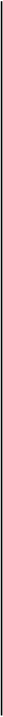
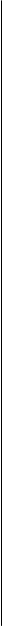
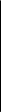
 мы пришли, — подчеркивал он, — в действительности шло-; женным рассуждением не доказан, но это рассуждение дало своего рода указание, что вывод верен»1.
мы пришли, — подчеркивал он, — в действительности шло-; женным рассуждением не доказан, но это рассуждение дало своего рода указание, что вывод верен»1.
Эвристические методы исследования теории находят наибольшее применение в развитых эмпирических науках. По ходу] изложения мы уже касались целого ряда примеров их плодотворного использования в качестве специфических средств по-] иска истины в конкретных науках. Так, принцип соответствия! в физике дал возможность построить математический аппарат1 квантовой механики, опираясь на соответствующим образом; модифицированные уравнения классической механики. Прин-j цип дополнительности способствовал раскрытию глубокой диа-i лектической взаимосвязи между корпускулярными и волновы-i ми свойствами микрочастиц материи. Соотношение неопреде-] ленностей В. Гейзенберга установило границы точности nptii измерении взаимосопряженных величин подобных частиц, таких, как их координата и импульс.
Значительно большую роль в процессе построения теории играют мысленный эксперимент и модельные представления.] Отвлечение от ряда ограничений реальных экспериментов, позволяющее значительно упрощать и идеализировать изучаемые] явления, обеспечило мысленному эксперименту такое широкое применение в точном естествознании, на которое вряд ли мо-1 жет рассчитывать любой другой эвристический метод. Нелишне будет отметить, что еще Галилей в своих исследованиях меха- \ нических процессов наряду с реальными экспериментами иногда обращался и «к воображаемым», по его терминологии, экспериментам, позволявшим ему представить эти процессы «в чистом виде». В самом деле, принцип инерции классической! механики, известный теперь как первый закон Ньютона, мог появиться лишь в результате воображаемого эксперимента, по-скольку ни в каком реальном эксперименте невозможно полностью изолировать тело от внешних воздействий. Мысленный эксперимент справедливо рассматривают как продолжение и] теоретическое обобщение эксперимента реального, так как] именно последний дает наводящие указания, как можно было мысленно продолжить процесс и осуществить предельный ne-J реход от реальной ситуации к идеальной. Действительно, реальный эксперимент наводит на мысль, что по мере уменьше- |
Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения.—М., 1957.
ния воздействия внешних сил на движущееся тело, пройденный им путь увеличивается. Исходя из этого, можно предположить, что при отсутствии внешних сил тело будет двигаться равномерно и прямолинейно, или оставаться в покое, что и нашло свое выражение в первом законе Ньютона.
В ходе исследования часто возникает также необходимость построения разнообразных моделей изучаемых процессов, начиная от вещественных и кончая концептуальными и математическими моделями. Такие модели опираются на аналогии свойств и отношений между оригиналом и моделью. Изучив взаимосвязи, существующие между величинами, описывающими модель, их затем переносят на оригинал и таким образом делают правдоподобное заключение об особенностях поведения последнего. В концептуальных моделях отображаются логические связи между элементами моделируемых систем, а в математических моделях исследованию подвергаются системы уравнений, описывающих такие системы. Изменяя параметры этих уравнений, можно получить различные варианты моделей, вычислить их результаты на компьютере и сравнить с данными натурных экспериментов. Такой вычислительный, или машинный, эксперимент в последние годы стал применяться для решения многих научных, народно-хозяйственных, экологических и других проблем.
Более привычными в процессе формирования теории являются мысленные наглядные модели, когда удачный образ помогает представить особенности чувственно невоспринимаемых свойств и механизмов явлений. Прежде чем построить модель, сначала тщательно анализируется вся доступная информация, затем выдвигается определенная гипотеза о структуре исследуемого объекта или процесса и только потом подыскивается подходящий мысленный образ или модель. В ходе дальнейшего исследования в эту модель могут вноситься дополнения и уточнения, обусловленные получением новой эмпирической информации. Так, когда физики начали изучать испускание и поглощение света атомами, то в качестве мысленной модели они приняли модель Дж. Дж. Томсона, согласно которой положительно заряженные частицы равномерно распределены по всему объему атома, а электроны вкраплены в него подобно изюму в пудинге. Однако эксперименты с а-частицами показывали, что некоторые из них не проходят свободно через атом, а резко отклоняются от первоначального направления. Это заставило ученых отказаться от первоначальной модели и принять
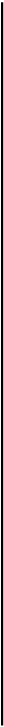 модель Э. Резерфорда, в которой атом уподобляется миниа-1 тюрной Солнечной системе, где вокруг центрального положительно заряженного ядра вращаются электроны. Но и эту мо-J дель пришлось модифицировать, ибо в соответствии с принципами электромагнетизма вращающиеся вокруг ядра электроны в конце концов должны были бы упасть на ядро, а атом—разрушиться.] Ничего подобного в реальности не наблюдается, так как в нормальных условиях атомы являются весьма устойчивыми образо- • ваниями, и требуются огромные силы, чтобы разрушить их. Чтобы устранить противоречие между моделью и опытом, Н. Бору пришлось постулировать, что вращаясь по стационар-; ной орбите, электрон не излучает энергии. Такое излучение' происходит только тогда, когда электрон переходит с одной стационарной орбиты на другую. В дальнейшем и эта моделы подверглась модификации, в частности, пришлось отказаться) от механической аналогии движения электрона по орбите наподобие движения материальной частицы в поле сил. Приве-! денный пример показывает, что «мысленные модели» являются' важным эвристическим средством познания структуры чув-. ственно невоспринимаемых объектов и построения их теории.
модель Э. Резерфорда, в которой атом уподобляется миниа-1 тюрной Солнечной системе, где вокруг центрального положительно заряженного ядра вращаются электроны. Но и эту мо-J дель пришлось модифицировать, ибо в соответствии с принципами электромагнетизма вращающиеся вокруг ядра электроны в конце концов должны были бы упасть на ядро, а атом—разрушиться.] Ничего подобного в реальности не наблюдается, так как в нормальных условиях атомы являются весьма устойчивыми образо- • ваниями, и требуются огромные силы, чтобы разрушить их. Чтобы устранить противоречие между моделью и опытом, Н. Бору пришлось постулировать, что вращаясь по стационар-; ной орбите, электрон не излучает энергии. Такое излучение' происходит только тогда, когда электрон переходит с одной стационарной орбиты на другую. В дальнейшем и эта моделы подверглась модификации, в частности, пришлось отказаться) от механической аналогии движения электрона по орбите наподобие движения материальной частицы в поле сил. Приве-! денный пример показывает, что «мысленные модели» являются' важным эвристическим средством познания структуры чув-. ственно невоспринимаемых объектов и построения их теории.
 2015-05-18
2015-05-18 762
762








